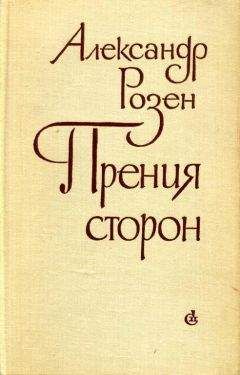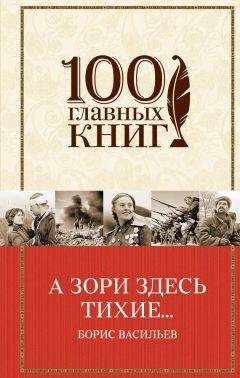Александр Розен - Почти вся жизнь
Сам не зная как, Абатуров снова очутился возле знакомого дома, сплющенного воздушной волной. Но больше он не вспоминал прежних дней, проведенных здесь.
Он не нашел своей жены в Грачах.
Через несколько часов начнется новый его поход. И кто знает, быть может, на улицах Берлина его батальону суждено повторить сегодняшнее сражение.
«А если и там я не найду Наташу? — подумал Абатуров. — Если ее нет?»
Он вспомнил свой разговор с Крутояровым и как тот со злобой ткнул себя в грудь. Неужели же Крутояров был прав и радость не для них — все потерявших и еще ничего не нашедших в жизни?
Он ничего не ответил себе. Он только видел перед собой Осокину, ее старое лицо, словно освещенное изнутри, и чувствовал, что не в силах быть в стороне от этой всепроникающей радости.
Утром батальон Абатурова покинул Грачи.
1944Моя батарея
Немцев от нас отделяет широкая и глубокая река. Берега ее высоки, круты и каменисты. Нам приказано разведать вражеский передний край. Мы готовимся к наступлению.
Вызываю к себе двух разведчиков: рядового Лосева и сержанта Птицына. Объясняю задачу. Выслушав, они старательно делают «налево — кругом» в моем узком и низком блиндаже. Дежурный радист слегка поворачивает голову и, не отрываясь от рации, смотрит им вслед…
Сильный ветер. Мелькнула луна. Заблестела, вся в мелких дождевых каплях, походная рация на спине сержанта. Разведка должна кодировать наблюдение.
Конечно, в такую погоду трудно прибиться к берегу, но разведчики — смелые люди. Лосев до войны занимался спортом. Птицын — шахтер. Я еще до войны читал о нем в газетах.
Проходит час. Радист сидит неподвижно. Мне кажется, я слышу, как он ждет позывные разведчиков.
Я встаю, подбрасываю дрова в печурку и чиркаю спичкой. Густой и едкий дым валит мне в лицо.
— В такую погоду не затопишь, — говорит радист хмуро.
Звонит телефон. Я докладываю начальнику штаба, что разведчики отбыли три часа назад.
— Погодка, — говорит он, — ну-ну…
Ветер нарастает. Если они уже прибились к берегу, то укрылись между камнями, лежат, прижавшись друг к другу. Спирт у них есть.
— Попробуй вызвать их, — говорю я радисту.
— «Берег»! «Берег»! — говорит радист негромко, но внятно.
Проходит еще час. Ветер стихает, дождя нет, и вода в реке начинает убывать.
— «Берег»! «Берег»!
Я выхожу из блиндажа.
Медленно, словно со дна реки, пробивается рассвет. Левый берег еще не виден.
Разведчикам приказано занять место для наблюдения в районе ориентира номер два. На это потребуется полчаса…
Проходит полчаса.
Вдруг словно кто-то проткнул небо. Пролился быстрый утренний свет. На левом берегу деревья, уже потерявшие зелень, потянулись к узкому солнечному клинку.
Я спускаюсь в блиндаж. Радист тряпочкой протирает рацию.
— В порядке? — спрашиваю я его.
— В порядке, — отвечает он сердито.
Проходит еще час.
— «Берег»! «Берег»! — зовет радист.
Я толкаю дверь и сажусь на верхнюю ступеньку.
Воздуха так много, что горизонт кажется раздвинутым. Высоко над рекой стоят облака. Голубые просветы между ними словно указывают на глубину неба.
«Отличная видимость», — отмечаю я.
В зеркальной осенней тишине каждый звук отчетливо слышен: мотор машины, посвист крыльев пролетевшей птицы, пулеметные очереди.
— Алло! — говорю я радисту. — Отличная видимость.
Он пожимает плечами.
Проходит еще час. Звонит телефон.
— Рация у вас в порядке? — спрашивает начальник штаба. — Настройка? Питание? Ну-ну, так, так…
В два часа дня нам приносят обед. Боец из хозвзвода долго топчется в нашем блиндаже. Мне он не мешает. Но радист говорит раздраженно:
— Иди, друг, иди… Тут, знаешь, и без тебя… — Он подумал и сказал: — Тесно.
Боец из хозвзвода, покачав головой, уходит.
Мы быстро съедаем суп и мясные консервы.
Радист смотрит на часы.
— «Берег»! «Берег»!
Вероятно, он решил вызывать Птицына и Лосева через равные промежутки времени.
Открыв дверь, я гляжу на левый берег. В сумерках он кажется вычеканенным из серебра. Пока я стою у входа в блиндаж, серебро темнеет.
— «Берег»! «Берег»!
— Ты уже сутки отдежурил, — говорю я радисту. — Сейчас тебя сменят… Что? Ну ладно, тогда я позвоню на батарею, чтобы не сменяли.
Ночь. Керосиновая лампа снова заправлена. Я сижу на нарах и стараюсь не смотреть на радиста. Наши неподвижные тени изуродованы бревенчатыми стенами блиндажа.
Резкий стук орудийного выстрела. Тяжелый разрыв снаряда в воде.
Спотыкаясь о ступеньки, выбегаю из блиндажа.
Кипящие фонтаны воды.
В кольце фонтанов, как под конвоем, плывет кустик, зеленый от лунного света.
Кольцо сжимается. Кустик плывет. Луна и снаряды взяли его в клещи. Он плывет. Пусть он плывет!
Радист кричит мне из блиндажа:
— Наши дальнобойные отвечают, бьют по его батареям!
Вместо «слышу» отвечаю «вижу»: редеет кольцо фонтанов вокруг плывущего кустика. Клещи разомкнулись. Кустик подплывает к нашему берегу. Перед ним каменный причал, защищенный громадной тенью.
Два немецких снаряда ложатся по нашему берегу.
Ни я, ни радист не понимаем, сколько еще проходит времени.
В блиндаж входят Лосев и Птицын.
— Раздевайтесь, — говорю я, — вы совершенно мокрые.
Звонит телефон.
— Да, прибыли, — говорю я. — Да, будет исполнено.
Они раздеваются. Лосев говорит:
— У нас рация испортилась.
— Я так и думал, — отвечает радист. Он вдруг как-то весь обмякает. Голова падает на рацию. Я по телефону вызываю сменщика. Затем аккуратно записываю наблюдения разведчиков.
— Оставайтесь здесь и отдохните, — говорю я им. — Меня вызывает начальник штаба.
Начальник штаба сидит за столом в своей землянке. Лицо его изменилось. Глаза стали узкими. Щеки запали и кажутся давно не бритыми.
— Отличные результаты, — говорит он после моего доклада. — Продолжайте наблюдение. Кого думаете послать?
Я сажусь за стол, называю две фамилии и, сам не знаю почему, кладу голову себе на руки.
— Я иду к командиру полка, — говорит начальник штаба (он смотрит на меня). — Ну-ну, так, так…
Но проснуться я уже не могу.
ПЕРВАЯ…Боевые действия начнутся завтра утром. В том, что я не буду в них участвовать, виноват рапорт майора медслужбы Канунова:
«…Командир первой батареи прибыл из госпиталя, не закончив курса лечения».
Старый мой знакомый Левкин не спеша везет меня в тыл полка. Летний вечер вместе с нашей полуторкой тянется по шоссе.
— Целый день возил снаряды к вам, на первую, — говорит Левкин.
Наглотавшиеся бензина придорожные ромашки. Оглохшие от шума машин темные вечерние птицы. Рядом с нами, прямо в густую пыль, грузно садится большое солнце.
— Приехали, — говорит Левкин.
В шалашике, на полу, устланном ветвями елок, сидит, скрестив ноги, с трубкой в зубах Кокин, начальник артснабжения, — широкий, грузный, красный от духоты, похожий на солнце, севшее в пыль.
— Здорово, друг, — говорю я. И рассказываю о своей неудаче.
— Начнется операция — дело найдется, — говорит Кокин. — Ложись отдыхай.
Я бросаю шинель на ветки и ложусь.
Голоса водителей, визгливое лязганье идущих по шоссе танков, тонкое комариное пение. Приснись мне, моя батарея! Стволы, блестящие ранним утром, словно растертые махровым полотенцем.
Утро. Кокин говорит мне:
— Вот образец учета. Следи, друг. Писаря путают, а меня потом штаб греет.
У Кокина много дела. Боевые действия разворачиваются. Батареи требуют снарядов. Кокин осторожен и требователен.
Я слежу за учетом. Все чаще появляется «первая» в графе «батарея». Все чаще я слышу голос Кокина:
— Опять первая!.. Дайте первой… Что там с первой?
Полдень. Черные густые тени, словно налитые зноем.
— Надо выяснить, что с первой, — говорю я Кокину. — Я съезжу с Левкиным.
Духота в кабине машины. Кожаное сиденье раскалено. Четкие узоры шин и гусениц на пыльном шоссе. Прибитая к дереву стрелка-указатель «МСБ» — к запыленным палаткам медсанбата. Двадцать на спидометре.
— Судя по расходу, батарея ведет беглый огонь, — говорю я Левкину многозначительно.
Левкин качает головой:
— Ох, не надеюсь я на резину. Машина перегружена.
Все-таки тридцать на спидометре. Черный столб пыли возникает впереди и с треском разваливается.