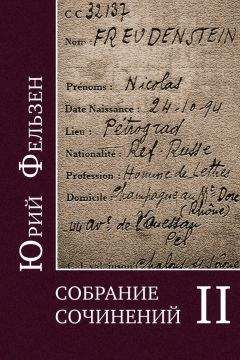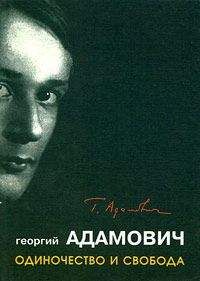Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
В медленно-неуклюжей толпе приезжих, среди первых, я узнал Лелю по горностаевой горжетке и синему пальто, о которых был предупрежден, и всё равно узнал бы – такой, именно, ее описывала Катерина Викторовна и я сам годами представлял: у нее необыкновенно бледное (словно перепудренное) лицо и глаза, похожие на кукольные – из-за сине-фарфорового оттенка и длинных, тяжело и плавно опускающихся ресниц – и неожиданно-милая, после всей этой как бы искусственной неподвижности, дрожащая прищуренная усмешка. Леля чуть ниже среднего роста и хрупкая, но вся до того прямая, с движеньями столь изящно-определенными, что должна казаться высокой и сильной. Я подошел к ней без смущения, ободренный, приподнятый отсутствием нового, своей продолжающейся готовностью служить. В такси мы говорили о Катерине Викторовне, и Лелины глаза добродушно, уверенно-спокойно и успокаивающе улыбались: я знаю о вас и вы обо мне – вот как хорошо, когда мы вместе. Вообще с первой минуты Леля оказалась увереннее со мной, чем я с нею, хотя мы и были друг к другу одинаково подготовлены – так иногда мальчик, впервые объясняющийся в любви, почему-то смущеннее, беспокойнее своей столь же неопытной сверстницы. Впрочем, в Леле сейчас же угадывался особый к людям и разговорам навык, свойственный многим самостоятельным женщинам, особое умение со всеми обращаться: она понимала с намека, переспрашивала, чтобы сразу распутать неясное, и без усилий делала те стыдные, обычно скрываемые и, в сущности, дружественные замечания, без которых человеческая близость всегда остается беспомощно-условной и тяжелой. Комната ей не понравилась:
– Простите, милый друг, вы услужливый и добрый – сколько тетушка мне об этом говорила, – но вам хочется тронуть, именно, своей заботливостью, и вы не думаете о том, как бы всё устроить разумно и правильно. Я просто напоминаю вам – не для себя, для следующего случая – и ни капельки не хочу упрекнуть. Напротив, я еще не сказала, до чего вами тронута.
Комнату все-таки не переменили:
– Мы, кажется, подружимся – зачем же забираться от вас далеко, а здешние, получше, вероятно, мне дороги. Скажите только честно, не мешаю ли я вам, не слишком ли вы пока деликатничаете.
Я довольно точно уловил любопытство и тревогу, смутное женское желание что-то значить и не иметь соперницы – при всей своей неуверенности сейчас же различаю малейшее, самое скрытое к себе расположение и, даже безответный, умиляюсь. Лелю сразу успокоил, и больше она не сомневается в крепкой моей дружбе, я же поверил благожелательной правильности всяких ее советов, даю за нас обоих решать, и незаметно устанавливается, что она как-то покровительственно во всем руководит. Иные ее суждения поражают своей проницательностью – той именно, от которой краснеешь, и не по-моему легкой – такая безошибочно угадывающая простота для меня убедительнее изысканных и неверных сложностей. Леля не только угадывает чужое, но и отыскивает свое, пускай нелестное, легко в нем сознается, и это у нее выходит естественно, даже весело, без жалких или грузных самообвинений. Зашел разговор, столь частый у людей моего с Лелей возраста (тридцатилетних и старше), оказавшихся в одиночестве, но еще надеющихся – о плохой молодости, о любовном времени, их навсегда потрясшем:
– Это единственное у меня с вами богатство, единственное, в чем мы друг другу любопытны и, если хотите, близки. Странный «капитал» для нашего «товарищества» – как будто не свой, украденный. Но смущаться, замалчивать не стоит – всё равно, другого у нас нет.
Потом заговорили о том, хорошо ли Катерине Викторовне живется. Я промолчал, что недавно ей помог. Леля об этой помощи знала:
– Ваша скрытность не так достойна, как вы думаете. Признайтесь, вам больше всего хочется быть разоблаченным – тогда вы еще выиграете и от молчания. То же самое, если не сразу объявляют о важной или приятной новости, чтобы потом удивить выдержкой – всё это от тщеславия, которое нелепо среди друзей. Я не ценю и не люблю такой чрезмерной выдержки – «peut-etre j’en suis trop eprouvee» (у Лели отличное французское произношение). Давайте уже друг о друге судить по существу.
Лелину манеру говорить можно по-странному (но без противоречия) назвать «сдержанной откровенностью»: откровенность – в смысле какой-то прямоты, безбоязненного признавания неудач, отсутствия прикрас, подготовок или ложной, напоказ, скромности, а сдержанность – в самой степени, в стыдливо-бедном прилагательном, в некоторой скупости описаний. Мне приятно, какой у Лели голос – он низкий, чуть-чуть однотонный, иногда теплый и убеждающе-певучий.
Мы были вместе почти весь день, и Леля много о себе рассказала. Меня слушает внимательно, терпеливо (от сосредоточенности по-смешному застывая), но после коротеньких, острых, сгущенных ее рассказов, после иных выразительных ответов мои слова как-то не звучат. Обыкновенно завидую счастливо-способным людям, которым не надо стараться, но Лелину во всем удачливость принимаю, точно свое, и еще сегодня утром любовался, с какой неколеблющейся изящной ловкостью своими милыми дельными руками она убрала комнату, потом для меня зашивала лопнувшую по шву новую перчатку, причем предложила она же и поморщилась от неумеренной моей благодарности. Под вечер я вспомнил (вернее, «вспомнил» для Лели, а сам уже решил с утра), что надо ей объяснить про вчерашний ресторан и насколько лучше было бы с ней – и только нагляднее это вообразил, как меня неудержимо туда потянуло. Леля согласилась легко и с улыбкой почти нежной:
– Принято, но больше не буду вас разорять, а мне кутить не по средствам. С завтрашнего дня «выходы» скромные и по-товарищески, и вы меня, пожалуйста, не уговаривайте и не сердите.
Скоро должен за Лелей зайти (она у себя переодевается), и впервые после долгого времени – никакой озабоченности, ни одного тяжелого или скучного предчувствия, никаких желаний, обжигающих своей неосуществимостью, и кажется достоверным, что и дальше будет по-сегодняшнему – занимательно, беззаботно, просто.13 декабря.
Леля меня ждала, взволнованно-озабоченная перед зеркалом и внезапно похорошевшая, в вечернем платье, коротком, прозрачном, и мне впервые представилась только женщиной, по-женски ослепительной и сразу отчужденной и недоступной. Всё за день в ней обнаруженное и ее ко мне приблизившее – внимательный, насмешливо-добрый и понятный ум, намеренно дружеская прямота, какая-то скромность, не отпугивающая моей и меня к Леле приравнивающая – всё это, без поверки принятое (как хорошее настроение или неожиданно милая книга), вдруг забылось, потускнело, отошло, и Леля, ярко-нарядная, незнакомая, была уже не со мною, а в какой-то чужой жизни, праздничной, чванной, запретной, вызывающей во мне одну грустную беспомощность. Я смотрел на нее по-новому – как-то унизительно-бескорыстно восхищаясь, – и по-новому стали недосягаемы ее руки, еще недавно такие ловкие, домашние и спокойные, теперь оголенно-холодные, враждебные и оттого влекущие, ее нежные и сильные плечи, ее ноги – я прежде не разглядел их девической безукоризненной стройности. Еще открытие: Леля совсем не хрупкая, как я от первоначальной своей умиленности вообразил, но вся она тонкокостная, мягко изваянная, с узенькой щиколоткой и кистью, и, быть может, от этого – кажущаяся обманчивая хрупкость. Самое удивительное у нее кожа – такой нежной и мягкой белизны, от которой и тепло и замирающе-сладко.
Леля (мне кажется в первый раз, что правильнее «Елена Владимировна», как вынужден по-неловкому ее называть в лицо) заметила мой испуг и обрадовалась ею вызванному впечатлению, но сразу пожалела, постаралась исправить, ввести меня в круг хозяйственных разговоров, шутливой откровенности, уже ставший для нас своим и, по-видимому, убежищем в опасности:
– Боюсь, мое платье недостаточно модное – сейчас видно, что я провинциалка. Только вы не должны меня стесняться – если всё устроится по-хорошему, будем вместе ходить по моим туалетным делам.
Постепенно – из-за этого милого успокаивающего тона, из-за манто, прикрывшего голые ее плечи и руки, из-за темноты в такси – я вернулся к веселой и беспечной прежней доверчивости и только в ресторане, когда Лелю словно бы нечаянно около себя находил («находить» собеседника – частое свойство моей рассеянности) или замечал чье-нибудь нестесняющееся упорное рассматривание, как-то внутренно вздрагивал и на минуту терял найденное, принятое в Леле – постоянное равновесие и опору. Так, именно, без резкого болезненного волнения, спокойно и весело (совсем не по-вчерашнему) я слушал музыку, не умилялся над пьяными, искусственно относимыми к себе словами, пил в меру – и по отсутствию потребности, и оттого, что Леле мое пьянство могло бы не понравиться: в ней есть какое-то, мне передающееся душевное здоровье, притом не грубое, а разумное и одухотворенное. Леля, казалось, угадывала мои мысли и как будто хотела себе доказать, что меня не обманывает. После молчания, вне связи с предыдущим, неожиданно она сказала: