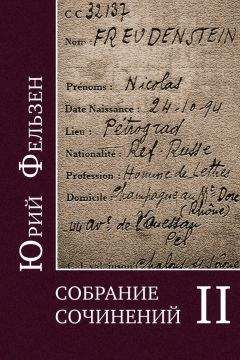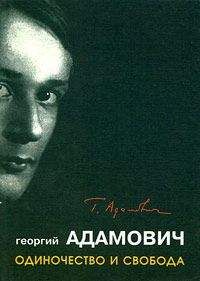Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Место выпало как раз неудачное – посередине зала – и я очутился спиной к нескольким молодым женщинам, лишь промелькнувшим и уже отмеченным, и они сейчас же для меня исчезли, еще больше выделив остальных, как исчезают для нас иные люди, возможные друзья или возлюбленные – на железнодорожной станции, на каком-нибудь уличном повороте – и другие, действительно близкие, если надолго попадут в чужой, нам недоступный город. Впрочем, так же и мы для них исчезаем, тем самым уступив место, как бы помогая другим, но это не должно нас утешить, а только лишний раз напоминает нам о несовершенстве человеческих отношений, об их зависимости от ничтожнейших мелочей, обидно превращающихся в судьбу.
Чтобы совсем избавиться от тяжести ожидания, уже ослабленной размягчающим ресторанным воздухом, я выпил подряд несколько «двойных» рюмок водки, рисуясь, что не опьянел, и по забывчивости сам себе удивляясь – я пьянею не сразу, зато становлюсь неузнаваем и противиться перемене не могу. И на этот раз перемена произошла удивительная, причем не было, кажется, перехода: я вдруг поддался веселому возбуждению, безвольному, словно навеянному со стороны, всё убыстряющемуся и тем неизбежнее втягивающему, что не могло за ним быть привычного после трезвости разочарования – и поверил громкой, как будто взбесившейся и от чего-то освобожденной музыке, стараясь не слышать, не думать, что она – подделка (даже под румынскую сладость или буйство), и торопясь догнать ее задыхающийся, на всё мое непохожий, любовно-счастливый бег. Впрочем, музыке мешал обед – от водки и, быть может, по неизбалованности пирожки и котлеты казались особенно вкусными, мне же часто еда не дает расчувствоваться, сковывает и внешне, что также иногда расхолаживает: с тем, как обнаженно мы едим, какими нескрываемо-хищными при этом должны казаться, не вяжутся благородные, саможертвенные решения (хотя бы вызванные ресторанной музыкой), и в случаях, подобных сегодняшнему, я торопливо доедаю любимое, вкусное (до самого последнего куска) и потом, с показной невнимательностью, как бы уже захваченный благородным или горьким своим чувством, отказываюсь от остального и прошу принести кофе – чашечка кофе придает какую-то (по моему представлению, светскую) законченность неотразимой для меня позе человека сдержанно-пьяного, всё более отравляющегося и к себе презрительно-беспощадного.
Но вот тарелки убраны, чашка кофе передо мной, и я могу душевно себя распустить, а внешне лишь капельку показать – оставшись спокойно-благовоспитанным – облагораживающее, ошеломительное действие музыки и от нее возникших воспоминаний, и этим намеком и своей (будто бы необыкновенной) выдержкой как-то задеть, приблизить блестяще-достойных женщин, которых выбрал вначале, когда вошел, за которыми не перестаю следить и которые тоже (с неотступным вниманием, но по-женски самолюбиво-скрытно) у разных столиков за мной наблюдают. Мое пьянство чаще всего самовлюбленное: обычная неуверенность исчезает, мнение о себе, о своем успехе повышается до слепоты, я становлюсь естественно-предприимчив, не вижу препятствий, не понимаю страха и был бы рад пожару, опасности, панике, чтобы щегольнуть перед всеми своим бесстрашием, когда же, после давно знакомой мелодии, припомню свое уже неподдельное прошлое, порою грустное, безвыходное, самоубийственное, то и такое ощущение прошлого, удесятерившись от всего выпитого, наполняет за себя той же требовательной, самовлюбленной гордостью, и, пожалуй, иным является только пьянство по отчаянью, редкое в эти скучные годы.
Я уже не считаю, как раньше (после первых своих наблюдений и поспешных задорных выводов), что пьяная одержимость особенно проницательна или может чему-нибудь вдохновенно-новому научить – явно слабеет ум, многое из памяти (всё сложное или шаткое) стирается, записанное сгоряча окажется потом незначительным и бессвязным – но есть в пьянстве подлинное, хотя бы и бессмысленное, нежаленье себя, легкость приключения, жертвы, какая-то сила, громкая и огрубляющая.
Я мешал ликеры, всё более от себя уходя, свое отдавая и этим как бы участвуя в общем согласном полете – музыки, чьих-то райских улыбок, обещающих преданность и доброту, и случайных безмерновыразительных романсовых слов: пела цыганка, немолодая, в низко вырезанном, модном, ее обезличивающем платье, и как будто пыталась насильственно влить в этих чуждых людей крепкие страстные свои звуки. До меня они доходили с какой-то пленяющей убедительностью: в них было передано, точно и коротко, случившееся именно со мной и еще украшено, обогащено пением – многое как бы навсегда врывалось в память, тревожило, трогало, заставляло с самим собой спорить и что-то о себе горячо и сладко пояснять. Те же слова после трезвого успокоения могут показаться наивными, вялыми, лишенными пьяного колдовства, но настолько это колдовство неотразимо, что они запомнились со всеми, не раз повторявшимися, возражениями и доводами. Вот цыганка настойчиво выкрикивает мое любимое – «каждый вспомнит свою дорогую», – и у меня одна за другой путанные быстрые мысли: то, что вспомнит непременно «каждый» – от всей огромности обобщения трогательная величественность, то, что вспомню также и я, конечно, для меня, главное, но относится это не к прошлому (хотя музыка и могла бы его легко пробудить), а к завтрашней Леле, вдруг приблизившейся, живой и почти осязаемо в меня влюбленной. Затем новый, как танец, укачивающий размер и новые, немного странные слова – «сердце лаской тратится» – в них прелесть покорной, не ропщущей, навсегда принятой жертвенности, но у меня упрямое несогласие: нет, сердце не «тратится», а богатеет – надо только приоткрыть сердечные богатства, и они потом неисчерпаемы. Мужской вкрадчиво-умоляющий голос мягко продолжал: «Я выйду от тебя, как прежде, горделиво, пусть люди думают, что ты еще моя». Невольно завидую: я ни разу не смел просить о такой услуге – те, забывчивые, кого выбирал, надо мной посмеялись бы и давно меня убедили, что по-иному, по-доброму, не бывает.
Напротив русская «danseuse» (ее приглашают танцевать за деньги) – похожая на всех, кого я выбирал, кто мучили меня или могли бы мучить – совсем оголенная, рыже-белая, с умным, неприятно-дерзким лицом. Мне кажется невозможным излюбленное неподвижное созерцание, которое обычно считаю пропитанным жизнью и единственно-творческим, мне хочется поскорее – из-за музыки, воспоминаний, из-за денежной доступности этой женщины – добраться до грубой, может быть, настоящей жизни и себе подарить безмятежно-щедрую ночь. Но какое-то взрослое благоразумие, никогда не забываемый опыт осторожно меня останавливают, трезвят, как бы советуют не портить Лелиного приезда смешными и стыдными мелочами – недовольной усталостью, глупой болезнью, хотя бы страхом заболеть. Без единого усилия, с радостью себя преодолеваю, потому что Лелин приезд стал уверенно-близким, и его ожидание – стремительное, легкое, суеверно-благоприятное.12 декабря.
Я заказал комнату поблизости от себя, в отеле, дешевом и сравнительно чистом, и отправился на вокзал встречать десятичасовой берлинский поезд. Из дому вышел поздно, чтобы не долго ждать, в дороге завозился и уже с вокзала, узнав, что поезд опаздывает, неожиданно для себя сорвался и побежал на улицу за цветами. Выбрал темно-красные розы, мокрые, свежие, еще свернутые, на неестественно-прямых, поддержанных проволокой стеблях, и это было первое, что перенесло Лелю из воображаемой жизни в живую, первое, чем мое отношение к ней меня самого тронуло, какое-то обещание доброты, сразу обязавшее к доказательствам новым и непрерывным: точно так же и всякие наши трогательно-прочные к людям отношения – длительная верность, бескорыстная саможертвенная заботливость, просто милое внимание – нередко начинаются с какого-нибудь случайно-капризного поступка, и потом уже нами руководят различные полусознательные соображения (умиленность перед собой, привычка к чужой благодарности, боязнь разочаровать, иногда несносная и скучная обязанность), поддерживающие нашу доброту, но еле связанные с первоначальной причиной – вероятно, многие из нас не помнят, почему оставляют в кафе одному лакею вдвое больше, чем всем другим, и считают себя вынужденными своего предпочтения не менять. Такой первоначальной причиной, создавшей обязательность – раз и навсегда принятую – умиленного внимания к Леле, оказались эти утренние пахучие красные бутоны, которых, по незнакомству, я и не должен был подносить, и они же (как я сейчас писал) нечаянно оживили привычную рыцарственность моих о Леле давнишних взволнованных мыслей, закрепив ее добровольно-действенным земным поступком, после чего настоящее Лелино появление уже не могло стать новым, неожиданным, резко перебивающим прежнюю к ней доброжелательность, и вся странная подготовка, начатая Катериной Викторовной, продолженная вялым, полувысушенным воображением последних лет, подогретая пятидневным ожиданием и вчерашней удачей, привела к Леле вплотную – без неизбежно-опасного промежутка рассудочной пустоты, присматривания и расхолаживающих сравнений.