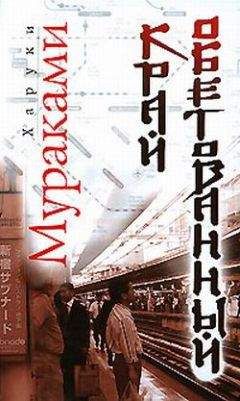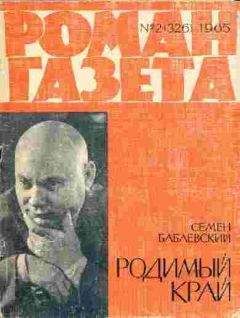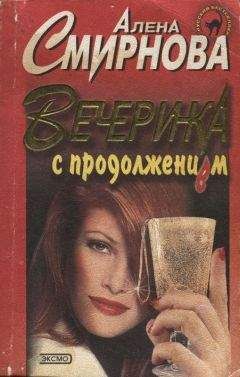Вера Солнцева - Заря над Уссури
Лесников рассказал ей о бегстве Калмыкова.
— А куда он удрал-то? Может, еще возворотится?
— Не возворотится, Настасьюшка! Теперь ему назад путь заказан. Ныне нам жить, а ему гнить. Конец! В Китай удрал, шелудивый пес. Вона куда сиганул с перепугу-то. Улепетывал атаманишка — дай бог ноги! Не дурак по-настоящему: стенка на стенку драться, первый на китайскую сторону ступил. Догоняли его партизаны — ускакал. Ребята из отряда Шевчука даже к китайцам слетали на конях. Только не пустили их в погоню китайцы, — пообещали, что сами бандитский отряд разоружат, а Калмыкова под арест посадят! Вот как дела-то обернулись, Настасья Макаровна. Не знали мы, что японец Ваньку Каина оставит без помощи, бросит, как хлам ненужный. Встрели бы ордишку гнилую, что с Калмыковым удирала, ответа боялась за палачество бандитское, — встрели бы и уйти в Китай не дали! Жаль, жаль — бросились за ним в поздний след…
— Хабаровск-то, поди, как вздохнул? — кутаясь в старый платок и зябко поеживаясь, спросила Настя.
— Незнакомые целуются, как на пасху! Заездил Каин: с осени восемнадцатого года по февраль двадцатого под дулом винтовки жили люди. Народ камень с души свалил! — безудержно ликовал Силантий. — Я за кровососом сам гнался, знаю — ушел, а и то готов себя ущипнуть: не сплю ли? Конец Каину, попил кровушки бандюга. Теперь заживем, хозяюшка!..
— Новое правительство-то как понимать? — несмело спросила Настя.
— Товарищ Яницын нас собирал, разъяснял: в новом правительстве — по прозванию Приморская областная земская управа — есть и меньшевики и эсеры, но больше всего большевиков, и такое правительство вреда народу не сделает, будет линию верную гнуть. Комиссар говорил нам: «Приморское правительство создано по директиве российского центра и самого Владимира Ильича Ленина». Партия большевиков велит признавать — тут рассусоливать нечего: большевики нами в лихой беде проверены…
— Слыхала я, что партизаны в город рвутся, а их туда не пускают? — спросила Настя.
— Партизаны уже в Хабаровске, — довольно сказал Лесников. — Тут такая петрушка получилась. Как сбежал Калмыков тринадцатого февраля — в город вошли войска временного приморского правительства. Аккурат через три дня вошли — шестнадцатого февраля. Нас, партизан, маненько помариновали: боялись, что японец на нас с ружьем полезет.
Вошли мы в город двадцать третьего марта — и что тут поднялось! Хабаровцы со всех улиц бегут нас встречать. Женщины плачут, смеются, нас обнимают. Меня такая красотка в губы чмок — еле на ногах устоял! — пошутил Силантий. — «Ура!» — нам кричат. Мы как из тайги вышли, так и заявились — в унтах, торбасах, валенках, в брезентовых ичигах. В тулупах, бекешах, полушубках, шинелях, пальто. На головах шапки-ушанки, папахи, кубанки. Одним словом, разношерстная масть. Банты красные во всю грудь. Идем честь по чести — победно, строем.
Партизаны-конники на лошадях вальяжно выступают: красуются, гордятся. Да и есть нам чем гордиться: идет партизанская несметная сила. Идем — ног под собой не чуем от радости: вольно шагаем по родному Хабаровску! А сами щетиной заросли, волосом длинным, небритые. Идем со знаменами походными, пулями прошитыми, — сам черт нам не брат!
Японцы втихаря на нас щерятся, косятся, но виду не показывают: улыбаются нехотя, кисло; видят — идет хозяин, и надо посторониться. Не с голыми руками идет: винтовки, берданки, ружья, маузеры, наганы, кольты, гранаты, пулеметные ленты…
Партизаны разместились в казарме. А рядом, в другой, — японцы. Живут — друг на друга поглядывают. Партизанам и экспедиционному отряду дана установка: с японцами в конфликты не входить, выжидать.
Японцы притихли, партизан не задирают — лебезят, ходят в гости, улыбаются, сигаретки паршивые дарят.
— Томодати! Томодати! (Друзья они партизанам!)
Особенно один японец к Силантию ластился:
— Томодати, дедуска Силантий!
Лесников ему ласково отвечал:
— Вейся, вейся, вьюнок! Я тебя, новоявленный дружок — томодати, насквозь вижу: где ты лисой пройдешь, там три года куры нестись не будут.
Улыбаются, а смотрят как волк на телят.
Однажды японцы в полном вооружении, со штыками наперевес ринулись на партизанскую казарму. «Банзай!» — кричат, лица злые, зубы оскалены.
Партизаны видят — наступают они честь по чести, по всем правилам воинского дела. У партизан, конечно, боевая тревога: «Та-та-та!» Рассыпались они в цепь, японские солдаты тоже цепью залегли. Лежат, друг на друга смотрят, штыки сжимают.
Полежали японцы минут двадцать, встали и ушли восвояси. Ну и партизаны разошлись, но крепко кумекали: к чему бы такая гнусная история? Живут они в такой год, когда на дню бывает семь погод, обо всем размыслить надо. Решают: «Потерпим, пока народу да и оружия против них бедновато. Подождем!»
Командир отряда Сергей Петрович запрос японцам сделал: как вылазку провокационную понимать?
Японский офицер, малявка такая, бритый, весь блестит, как отъевшаяся пиявка, перед ним извивается, золотыми очками блестит, глазки щурит, кланяется. Белыми зубами сверкает, паршивец, улыбается ему:
— Нисево, нисево особенново, Сергей Петрович-сан, это так, нисево, таксисеские занятия сордат. Нисево прохого не ждите! Маневры, торко маневры!
Командир покривился. Да что поделаешь? Связываться не велено. Приходилось молчать, крепиться…
— Они от нас уберутся, японцы-то? — спросила Настя, когда Силантий рассказал последние события. — Какой год на земле нашей бесчинства творят!
— Въедливое воинство, — задумчиво ответил, поглаживая седую бороду, Силантий, — зубами рады в нашу землю вцепиться. Не хочется богатства несметные упустить. Потеснили их уж малость — из Амурской области убрались, а отсюда, похоже, не собираются двигаться. Нестерпимо им хочется откусить у нас кус. Ждут. Американец попробовал — не по зубам пришлось, уходит, говорят, скоро совсем с Дальнего Востока. А эти впились в живое мясо, дуются, как клещи! Товарищ командир Лебедев им не доверяет ни на столечко, — показал Силантий кончик мизинца.
— Чайку не согреть ли, Силантий Никодимович?
Лесников спохватился, поднялся с табуретки.
— Не до чаев мне, к вечеру должон быть в казарме — командир приказал не задерживаться. Чево-то япошата самурайские больно колготятся — так и снуют. Партизаночке связной передай от меня, что скоро сватов зашлю. Прощевай покедова, Настасья Макаровна…
Глава вторая
Сияющий апрельский день занялся над Хабаровском — город проснулся для мирного труда и счастья. Два месяца назад кончился кошмар калмыковщины.
Полтора года. Шестнадцать месяцев. Свыше пятисот дней Хабаровск был распят, страдал в застенках, в «вагоне смерти», томился в рабстве жестокого владычества.
Дикая орда временщика, садиста Калмыкова, пригретая союзными войсками, изо дня в день безнаказанно буйствовала, горланила, пьянствовала, творила бесчинства, насилия, хватала тысячами рабочих, крестьян, трудящихся, расстреливала после пыток.
И вот наконец великим валом народного гнева снесло, смыло поганую нечисть.
Первые дни весенне-голубого апреля двадцатого года. Свобода! Труд! Не надо бояться, оглядываться по сторонам, ждать удара.
Погожее, теплое утро. Сияло торжествующее, могучее солнце. Воздух прозрачен, напоен запахами весенней свежести. Сверкает поголубевший, вздувшийся Амур: скоро ледолом, тронется, разорвет ледяные оковы.
Хабаровск закипел, как муравейник. Дети бежали в школу. Старушки и старики торопились в церковь — великий пост, приспело время говеть, молиться. Хозяйки с корзинами в руках спешили на базар. Мужчины-кормильцы, добытчики — рабочие, грузчики, мастеровые, служащие — бодро шагали на работу.
Ласковое, праздничное утро освобожденного, только-только легко вздохнувшего Хабаровска осквернили и растоптали солдаты японского императора.
В девять часов утра по всему городу стали рваться снаряды, захлебываясь, затакали пулеметы, отрывисто и сухо защелкали винтовки.
— Японцы выступили!!!
Горожане метались, не зная, куда укрыться от все нарастающего града пуль. По Большой улице промчались два вражеских грузовика; сидящие за пулеметными установками солдаты безостановочно строчили во все стороны. Грузовики прочесали улицу, на тротуарах и мостовой остались лежать трупы мирных тружеников, застигнутых на пути шальной пулей.
Самурайская военщина, засевшая на крышах, чердаках высоких зданий — там заранее были установлены пулеметы, — методично расстреливала город: правительственные здания, школы, базар, бегущих людей.
Горожане не могли найти спасения от сокрушительного вала огня. По Большой улице пронеслась конница и вновь прочесала ее, стреляя налево и направо.
Алена Смирнова бежала к Барановской улице — там стояли партизаны командира Лебедева.