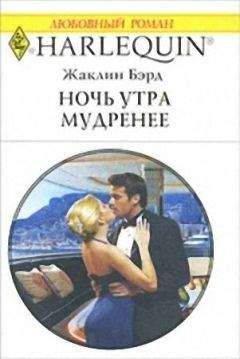Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
Подходя к аптеке, он услышал ругань и свист кнута. Хилая лошаденка тщилась поднять в гору непосильный груз: окованный железом сундук, дубовый комод и швейную машинку. Возчик, небритый, потный, в посконной рубахе, нещадно хлестал кобыленку. Калугин кинулся к нему на помощь:
— Тяни за оглобли! Я сзади! А ну, голубушка!
Гнедая почувствовала подмогу и, собравшись с силой, вытянула поклажу. Николай Николаевич забыл про дорожный одеколон…
На мосту он встретил Мишу Иовчука, молодого теоретика: тот обещал статью для журнала «Ленинец». Калугин напомнил ему о статье, хотя и знал, что журнал теперь ему не возглавлять.
(Дорогой читатель, впоследствии М. Т. Иовчук станет историком русской философии, членом-корреспондентом АН СССР.)
Возле яхт-клуба вспомнилась Берегиня: «Артистки чахнут без сцены. Вряд ли поедет со мной в глушь — Белозерск не Северная Пальмира».
В Кремле не пройдешь мимо скульптурного ансамбля Микешина. Берегиня называет его «бенефисом Тысячелетия России». Заслуженный юбилей! Но кто в ней победит: историк или «Вечерний соловей»? В Париже отец ее дружен с Алексеем Толстым, Куприным, Алехиным, Рахманиновым, Буниным. Все они мечтают вернуться на Родину. Нет, Ольга Сергеевна не покинет Россию, останется на родной земле декабристов.
Спасаясь от навязчивой мысли, старый холостяк зашел в Исторический музей. Вход здесь особый: дверь под старину — в железных плитах. За столиком важный кассир, он же страж, встретил знакомого краеведа улыбкой:
— Ваши хлопцы зачастили, присосались к старине…
Председатель Детской комиссии, как всегда, положил рубль рядом с книжечкой билетов и душевным словом согрел Пахома:
— Спасибо, голубчик. Ребята любознательные…
Поблескивали резные перила красного дерева. Стена над ними облеплена конкурсными проектами памятника России. Тут же победный рисунок Микешина. Держава напомнила идею Берегини: «Вершина человечества — мать». Нет, нет, Ольга останется здесь, около больной Анны Васильевны.
Возле братской могилы ему встретился помощник Воркуна, в брезентовых сапогах и брезентовой кепке. Калугин попросил его напомнить Ивану Матвеевичу о мастере кирпичного завода. Тот радешенек и времянке, и телефону, и охотничьим собакам.
Один Иван напомнил другого Ивана. Здесь жил Иван Посошков. Знаток России, крепостничества, ремесел, коммерции, ратного дела. Поселянин без страха, он остро вскрыл противоречия Петровской эпохи, что отразилось не только в заглавии труда «О скудости и богатстве», но и на судьбе самого реформатора: его заточили в Петропавловку, где он и умер в 1726 году. А вдохновил его на диалектику истории Великий Новгород! Но реформатор на троне испугался реформатора в мышлении. Увы, горе от ума — вечная трагедия!
Из дверей губкома вышел Клявс-Клявин, но, увидев Калугина, повернул назад. Чует кошка, чье мясо съела.
(Тогда Николай Николаевич не мог знать, что со временем Клявс-Клявина, сподручного Зиновьева, вышвырнут из рядов партии.)
Вдруг из театрального подъезда выскочила Берегиня: то ли она не заметила Калугина, то ли, нарушив свое слово, определилась в местную труппу и теперь, от стыда подальше, даже не оглянулась на историка. Он так растерялся, что не остановил ее, и так расстроился, что забыл попрощаться с друзьями из губкома.
Направляясь к дому, он был уверен, что там его ждет Глеб. Тот, разумеется, не забудет свою больную соседку из желтого корпуса. А учитель, в свою очередь, успокоит ученика — нет худа без добра: в Белозерске быстрее, чем здесь, автор не только восстановит рукопись «Логики открытия», но и учтет критические замечания Кибера. В Москву отошлет не статью, а полноценную, с великой перспективой книгу.
ТАЙНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯТолько к вечеру свежесть Волхова потеснила дневную теплынь. Солнце раскаленным ядром беззвучно взорвалось за кремлевской стеной, и тень Златоустовской башни вытянулась до подножия памятника Отчизне. Хор Софии и репродуктор молчали.
Я, в майском костюме, с тщательно расчесанными кудрями, ждал Берегиню, заинтригованный ее неожиданным звонком. А вот и она — у нее легкая спортивная походка. Актриса во всем белом, как невеста. В руке большие алые розы.
Ее волнение я объяснил тем, что она впервые назначила мне свидание. Голос ее тих и печален:
— Николай Николаевич прощается с городом. И, конечно, зайдет к Передольскому. Первый раз я увидела Владимира Васильевича не за кафедрой, а в Эрмитаже: профессор вел экскурсию, и слушатели от других гидов переходили к нему. Ни до, ни после не встречала столь зажигательного лектора.
Мне стало обидно за Калугина:
— Мой учитель не уступает…
— Сравнил! — упрекнула она. — Один замечательный лектор и только, а второй — сама мудрость и скромность. Стесняется издать афоризмы…
— Я собрал триста сорок!
— Отдай мне: я пополню их — издам, а ты, если тебе дорог наставник, навещай Анну Васильевну и готовься к повествованию о нашем учителе.
— Не одолеть: он мыслитель, а я футболист.
— Нет! Ты ученик Калугина. Я, общаясь с ним, быстро поняла, что университетский курс философии — рояль без клавиш. Как мы играли на нем? — Она продекламировала с улыбкой:
Гегель странный был чудак,
Не поймешь его никак!
Диалектик он того…
Вверх ногами у него…
Диалектике было
В этой позе тяжело,
Но явился Фейербах —
И она уж на ногах…
Фейербах, Фейербах,
Браво, Людвиг Фейербах!
И продолжила:
— Больше ничего не помню. А тут один памятник чего стоит. Калугин сказал: «Тайна Тысячелетия — философская тайна». Ты как понимаешь?
Наконец-то я сообразил, что Берегиня здесь не ради меня; и я, не без досады, принял ее вызов:
— Трибуна стратегов учит: каждый вождь в тисках вопроса: «Что решает в наше время? Кадры? Недры? Автоматы?» Нет и нет! Последнее слово за незримой схваткой стратегий. Понял — неуязвим, не понял — пеняй на себя!
— Складно! Здравый вывод из Тысячелетия. Но ты не уловил главного. Даю еще попытку.
«Откуда у нее такая спесь?» — озлился я, соперничая:
— Вот диалектика в бронзе: великие герои не герои, если они не обеспечили Родине долголетие. Люди мира, хотите величия и долголетия — учтите опыт российский!
— Неплохо, Глебушка! Здесь фигуры так сплелись, что перед нами — русский Лаокоон. Все же орешек не расколот. Твоя последняя попытка.
— Ты что, тренер?! — взбунтовался я. — Судья?
— Хватит! — цыкнула она и так дернула мою руку, что электрический ток прошил тело до пяток. — Думай!
— Не буду!
— Тогда слушай! — Она вскинула глаза на монумент. — Калугин нашел засекреченную фигуру…
— Покажи!
— Встань спиной к восточной арке и вглядись меж статуй Ивана Третьего и Петра Первого. Кто в тайнике?
Я занял указанную позицию и, зыркая глазами, определил:
— Лежит воин со сломанным мечом.
— А за ним?
— Крыло ангела.
— А ниже? В глубине! Кто прикрыт с пяти сторон?
— Простоволосый. У него шкура на плечах. И колчан за спиной. То ли охотник, то ли воин.
— Это сибиряк! Тунгус из войска Пугачева.
— Откуда это видно?
— А ты вглядись. Что он делает?
Меняя ракурсы обозрения, я наконец-то разглядел:
— Прильнул руками к державе…
— Как?! Кто разрешил?! — возмутилась Берегиня, принимая позу императрицы. — Что тут происходит?
К памятнику приблизилась женщина с ребенком на руках. Но актриса вошла в роль Екатерины II и зло потрясла розами:
— Почему монархи стоят спинами к державе, а держава в руках тунгуса?! Тунгусы, верные Пугачеву, бились с моими войсками. Это же крамола — призыв к бунту! Пугачевщина! Убрать!
Вдруг гнев на лице Берегини сменился иронией. Теперь актриса потешалась над царицей:
— Это не все, ваше величество! Сибиряк не просто овладел державой, а еще оглянулся на Петра и как бы говорит: «Хоть ты и велик, а будущее за нами: любое царствование кончается царствованием народа!» И в этом тайна Тысячелетия России!
— Нет! — не сдавался я. — У тайны Тысячелетия есть разгадка. Перед нами в бронзе оракул судьбы человеческой. Вот планета! — Указал на бронзовый шар. — А планета — мать ритмов, говорит учитель. Прослушай пульс земли и храни ее мирное сердцебиение. А все нарушители мировых ритмов будут повержены, как эти меченосцы — ливонский рыцарь, татарин, швед и все, кто засылает в чужие страны смерть. Смотрите, люди! Земной шар в руках народа — только в этом всеобщее спасение! Вот философия тысячелетней России!
— Ого! Молодчина! — просияла Берегиня, признаваясь: — Я опасалась, что ты — тип, прозванный Некрасовым «диалектик обаятельный». Верю! Ты посвятишь роман своему учителю. Даже Сережа порадовал Николая Николаевича, преподнес стишок: