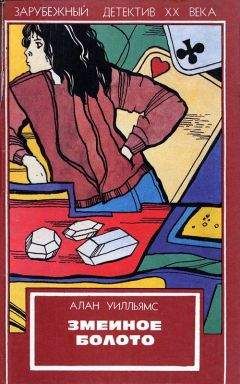Виктор Козько - Судный день
Так вы в е р н и т е к жизни ту сгоревшую, ту застывшую, ту окаменевшую девочку, — о н а пусть простит. «Добро» не украшение и не выигрышный билет. Под ним жизнь, под ним кровь. Не повернешь камень, который называется: то было. Для дальнейшей справедливости есть юрисдикция: степени вины, нормы наказания. Так, но кроме юрисдикции есть право памяти, есть достоинство и чувство необратимости. Литература думает не просто о том, кому сколько причитается, — более всего ее мучает вопрос: как простить? Это не измеришь — это можно только выстрадать. Тяжко оплачивается милосердие. Есть только один путь духовного искупления: крестный. Вместе с той замерзшей девочкой, с теми детьми, что горели и просили: «Лёду!»
Здесь переламывается проза Виктора Козько; от волчонка, ненавистью возмещающего свою боль, — к той бесплотной тени, что чудом вышла из нацистского застенка, из-под шприца герра-доктора, из пепла и холода небытия. От «Повести о беспризорной любви» к «Судному дню» — самой сильной и самой страшной повести Козько.
Андрей Разорка из первой повести знал: добренькими — прикидываются, он боялся жалости и срывал зло на слабых. Герой «Судного дня» в этом смысле беззащитен: он жалеет всех — от воспитательницы, которая пытается отогреть души детдомовцев, до колченогого и покалеченного пса. Само имя у этого бесплотного, словно из-за смертной черты вернувшегося ребенка, — прозрачностью звучит, словно тает в воздухе: Колька Летечка. Дух, тень, доходяга, «недоделок». Не жилец.
В последних строчках повести — документально-жесткая справка: они все умерли, все ослабленные, что были в том детском доме. Даже тот, кому сделали операцию на сердце, еще десять лет протянул-промучился и все равно умер. Не вернешь свершившегося. Необратимо. Не рождается «добро из зла», и не для того восстает из праха душа, во младенчестве загубленная, чтобы задним числом сводить счеты или искать справедливость, а чтобы до конца измерить страданием эту бездну — своей мукой искупить слабодушие людское. Своей болью.
Все знал старик Захарья, сторож детдома, когда говорил Летечке: не ходи на суд. И сам Летечка знал, что его убьет этот судный день: процесс над полицаями и карателями. Он шел на смерть своею волею. Умереть вторично. Первый раз, когда шприцем немецким сосали из него донорскую кровь для госпиталей райха, — умирал он телом, умирал оттого, что так сложилось: безвыходна ситуация, только случаем, чудом, ошибкой уполз живым тогда со смертного стола, — теперь же, десять лет спустя, он умирает от памяти, от сознания, от невозможности жить с мыслью о том, что полицаи и каратели, убившие его в сорок первом, вовсе не чувствуют себя виноватыми: «им приказали».
Стояли бы под судом тупые изверги, — какими и были они в страшные дни войны, — хоть ненавистью можно бы восстановить душу, но эти «обыкновенные люди», эти заурядно «незлые», сожалеющие исполнители: а что нам было делать!.. Мы не хотели. Это война...
Кто разорвет защитный круг? Как пробиться памяти сквозь эту животную заурядность? Какою болью вернуть человеку мысль о трагедии, когда дух среднего человека не выдерживает, не хочет трагедии? Какою ценой приходит катарсис?
В сцене суда, составляющей центр повести Козько и одну из лучших страниц современной белорусской прозы, ощущаешь то дыхание трагизма, когда словно проваливаешься в боль: с какой-то неожиданной точки, с обыденного поворота, чуть ли не с хохота. Странное соседство боли и смеха вообще поражает у Козько, но в декоративных сибирских повестях комический элемент цеплялся к сюжету искусственными, чисто словесными «крючками»; я видел, что меня хотят насмешить, но ощущал только странную тревогу от неожиданности этих вставных анекдотов. И только здесь, в «Судном дне», обнажилось дно души и наступило то потрясение, при котором в повседневности слышишь трубный глас.
Толпа, подвалившая к дверям Дворца культуры в ожидании, когда привезут в «воронке» подсудимых. Азарт массы, увлеченной подступающим зрелищем. Дед Захарья, принесший с собой завернутый в газету кирпич и забравшийся на козырек крыльца, откуда его под х о х о т толпы вежливо снимают милиционеры. Хохотом сотрясается душа, но это та самая грань, за которой хохот переходит в рыданье.
«— Люди! Мир!.. — бухнул сверху голос Захарьи. — Не допустите, не выдайте!.. Огонь нужен и камень...»
Но ни огнем, ни камнем не измерить эту боль. Принимает ее на себя истаивающая от памяти детская душа. Полную цену платит.
Коля Летечка умер, вернувшись с процесса. Перед смертью он достал из-под кровати свой чемоданчик и роздал другим детям вещи, И другие дети, такие же, как он, «недоделки», «доходяги», обреченные, все поняв, пытались бить его. Чтобы не смел.
Потом его хоронил весь город. Горькая была процессия. В тот же день незаметно свез «воронок» из города осужденных карателей. Разрешилась боль. Ни у кого не повернется язык применить к этой ситуации слово «прощение». Есть точные слова: возмездие и искупление.
Кант говорил: преступника карают не затем, чтобы сделать ему зло в ответ на то зло, которое он сделал другим, — а затем, что действие нравственного закона должно быть неотвратимо. И преступник, принимая неизбежную кару, может принять ее по-разному. Он может быть добит, как озлобленный зверь. И может принять смерть как избавление от мук совести. Если она проснется. Или — или. Искупление не всепрощение, и нравственный закон не тепловатая водица приятной доброты. Неизбежна мука. «Боится человек помереть человеком, помирает собакой». Пронзительная истина «Судного дня»: чтобы собачья смерть была осознана действительно как собачья, чтобы она вышла из тумана кругового «объективного» безличия, — кто-то должен прорвать это ровное кольцо — кто-то должен умереть человеком. И идет на это душа поистине неповинная. Ценою муки удерживает человек лицо и образ. Умирает Летечка, но горит в людях, собравшихся на площади, вера: «Каждому человеку, каждому его поступку есть, будет судный день и судный час».
Теперь несколько слов о последней повести Виктора Козько, — той самой, что носит пышное название: «Цветет на Полесье груша». Я уже говорил, что читал ее со сложным чувством. Холодным умом отдавал должное мастеровитости письма, холодным же умом сознавал все модные поветрия последних лет, под которыми расцвела эта груша: здесь и широкая душа человека из народа, и удаль охотника, живущего воедино с природой, и густая сочность «изнутри» описанной самой этой природы, и пантеизм, и язычество: своеобразный союз рыбака Евмена Ярыги и карпа, за которым он гонится, а потом, поймав, из доброты и жалости — отпускает. Словом, мне многое мешало в этом празднике природной силы и рыцарского великодушия, изливаемого на «братьев наших меньших». Мешал Бим Троепольского и целая стая его подражательных собратьев. Мешал Хемингуэй, чей Старик четверть века назад гнался за своей Рыбой, да так и засел в наших читательских умах. Мешал, наконец, дядя Коля, который за пять лет до того уже проделал в повести В. Козько «Темный лес — тайга густая» аналогичный фокус: три дня бежал за соболем, поймал и — отпустил. Более же всего мешала мне та декоративная, «природная» широта-доброта души, которая переселилась в новую повесть Козько из его сибирских историй, а туда попала, надо думать, из литературного потока, где широта-доброта и «природная» мощь человека идут чуть не первым товаром.
Но вдумавшись в писательский путь Виктора Козько, связав столь далекие для меня полюса его художественного мира, подумал я о том, что есть во всем этом, наверное, своя необходимость. Как есть необходимость, скажем, в судьбе того же Игоря Шкляревского, лирический герой которого — безотцовщина, «дитя войны и Могилева» — лечится лесом: берет ружье и снасть, чтобы там, в лесах, бить живое и жалеть его. Может быть, не случайна эта лесная страсть в душе белоруса, которого лес спас в страшную годину войны?
Я бесконечно далек от охотничьих и рыболовецких эмоций, но я, кажется, начинаю понимать Виктора Козько, когда его герой преследует карпа. Так и вижу эту крепкую кряжистую фигуру этого добрейшего человека, который в самый критический момент охоты не умеет и не хочет совладать со своей жалостью. Ему жалко и покореженную взрывом грушу, и пойманного на крючок карпа, и чуть не всякого человека, встреченного на тропе. Отходчива эта душа, на весь живой мир, на братьев меньших готова излить свою жалость — не потому ли, что среди братьев больших эта жалость опасна? И прожигает ветви цветущей груши непроходящий — оттуда — зов: «Таточка, лёду!»...
Пытаюсь определить место Виктора Козько в движении нашей сегодняшней прозы. Это место прочно. Я имею в виду, естественно, не тот таежный декор, которым он — в слабостях своего письма — связан с соответствующими тенденциями прежде всего русской, «сибирской», «нутряной» и т. д. прозы. Я имею в виду тот уникальный опыт, которым Козько в сущности взрывает эту декоративную широту-доброту.