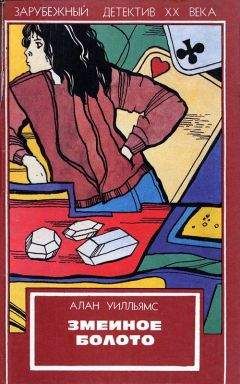Виктор Козько - Судный день
Гроб с Летечкой несли, постоянно сменяясь, шесть воспитанников детского дома. Несменяемы были только Стась Марусевич и Васька Козел. Они шли, Козел по правой стороне гроба, Марусевич по левой, держались за гроб руками, за красное полотнище его, будто хотели удостовериться, что все это наяву, что тут, рядом с ними их Летечка. И Стась Марусевич смотрел вперед, будто указывал глазами дорогу, куда надо идти, а Васька Козел, почти невидимый Марусевичу из-за гроба, смотрел все время под ноги, словно выбирал дорогу, следил, чтобы она была ровной и гладкой, чтобы не потревожила того, кто лежал в гробу.
Возле площади траурной процессии преградил дорогу черный милицейский «воронок». Он вырвался неожиданно из-за поворота улицы. Требовательно бибикнул, не разобравшись, наверно, вначале, что здесь происходит. Бибикнул и замолчал, будто сорвав голос, начал пятиться к обочине. Детдомовцы не обратили на него внимания. «Воронок» затаился, заглушил мотор, притих на обочине. Майор, сидевший в кабине рядом с шофером, молодым парнем, когда гроб поравнялся с машиной, торопливо сдернул фуражку, обнажил седую голову. Царапнули железную будку «воронка» траурные суровые звуки похоронного марша. Гроб и машина разминулись. «Воронок» тихо тронулся, и Летечка из гроба невидящими глазами, чуть покачиваясь на плечах детдомовцев, долго следил за ним, пока он не скрылся, не оторвался от процессии. И на асфальте остался один лишь Захарья. Похоронная процессия уже давно ушла вперед, уже давно не видно было «воронка», а Захарья все грозил ему вслед огромным черным кулаком.
Захарья сам вчера выбрал на кладбище место для Летечки на взгорке, обдуваемом ветрами.
— Мое место, — сказал он Грибу и Халяве, которые вместе с ним копали могилу. — Тут лежат все мои Сучки. Тут хотел и я пристроиться. Теперь пусть ложится он. С детьми ему веселей будет. Все не одному. Дай нам бог только никого не потревожить из них.
Но все же стронули что-то. Стронули, когда могила была уже почти выкопана. Оставалось только подчистить. Гриб задел что-то на дне ямы. Задел и застыл. Захарья вытурил его из ямы, присел в углу, закурил. И только после этого руками огреб то место, где споткнулся заступ Гриба.
— Грешен ты, Летечка, грешен... Грешен я, Летечка, грешная у меня рука, потревожил... Ты не гневайся, детка, не гневайся. Хотел как лучше... И вдвоем вам будет тут не тесно... Оно как лучше и получилось. А вот положили бы тут меня...
И Захарья замолчал. На обдуваемом ветром взгорке, где тесно было от маленьких детских крестов, положили и Летечку. И поставили ему не крест, а, как солдату, обелиск с пятиконечной красной звездочкой. А через несколько недель неподалеку от обелиска был поставлен и дубовый крест Захарье.
Умер он, как и обещался, на праздник святого спаса.
Васька Козел умер осенью того же года.
Стасю Марусевичу, Дзыбатому, в Москве одному из первых в стране была сделана операция на сердце. Он прожил после этого еще десять лет.
СЛЕЗИНКА ПАЛАЧА
— ...Я видел, как ягненка
Ужалил гад: он извивался в муках,
А подле матка жалобно блеяла;
Тогда отец нарвал и положил
Каких-то трав на рану, и ягненок.
До этого беспомощный и жалкий,
Стал возвращаться к жизни понемногу...
Смотри, мой сын, сказал Адам, как зло
Родит добро...
— Что ж ты ему ответил?
БАЙРОН.Мысленно свожу воедино столь далекие, на мой взгляд, художественные полюса прозы Виктора Козько — не сводятся. Ну, добро бы еще, н а ч а л с сибирской экзотики, а потом в е р н у л с я бы к родным белорусским истокам. Или, наоборот, от родных корней ушел бы в сибирскую даль... И в том, и в другом случае можно было бы сочинить что-то вроде эволюции. Так нет, шесть повестей, появившиеся за семь лет[3] и составившие Виктору Козько литературное имя, — вышли с такой плотностью, что как-то и негде уместить тут эволюцию. Все вперемежку, параллельно, встык. Первой же повестью — «Високосным годом», — попав в нерв литературного процесса, мгновенно войдя в центр внимания, от самого Виталия Семина получив напутствие в большую прозу, — тотчас же повернул Козько совсем «не в ту степь», вернее, не в тот лес, — в «темный лес — тайгу густую» ударился, туда, где цветут камни, где средь топких согр, хмурых куромников и золотоносных песков бродит зверь р о с о м а х, ища свою поедь, а следом за зверем гуляют таежные люди, бродяги, первооткрыватели и первопроходцы, и сплетают были и небылицы, и парятся в баньках, и говорят о душе, и сетуют, что много развелось в тайге нестоящего пришлого люду, всякой «интеллигенции». А тайга — она сильным покоряется. Могучие плечи, неторные тропы, водка в эмалированных кружках, трещиноватый окраец свежеиспеченного хлеба, голос крови, кипящие страсти, крепко сбитое тело мужика, сдобное тело молодки, сохнущей без мужской ласки, и все такое большое, сибирское: пауты, верхонки, пу́чки, кутний зуб, пружинящий шаг, бесшабашная рисковость, шалое счастье и согра, согра, согра... Как кто-то из критиков сказал про «настоящую сибирскую прозу»: все вокруг звероватые и все кругом закуржавело.
Полно, Козько ли это? Это Шукшин, Горышин, Осипов, Полухин... Это целый континент нашей прозы, имеющий свои хребты и вершины, но... у Козько-то — не там вершины! И корни не там. Однако, углубляясь в эту согру, в эту тайгу, в эту золотоносную жилу, он пишет в подобном стиле немалое количество страниц. Притом его главная сибирская повесть носит какое-то неуловимо «гостевое» название: «Здравствуй и прощай», а чуть не параллельно создается пронзительная «Повесть о беспризорной любви», где в нищем белорусском детприемнике послевоенных лет открывается совсем иная бездна: и потрясшая литературу правда «Високосного года» в ту же пору переживается все глубже и глубже, выходя к «Судному дню».
Но уже написав «Судный день», вещь уникальную, составившую неповторимый вклад в наш общий опыт, вдруг разворачивается Козько обратно в кущи и пущи, — правда, на сей раз не на сибирском, а на полесском ботаническом фоне, и пускается в погоню за рыбой, и создает рыболовно-охотничью симфонию под пышным названием «Цветет на Полесье груша»... И это цветение — после того, как прозрачный от боли детдомовец уже умер, изошел кровью, тоской, памятью... Казалось: какие там охоты, какая там рыба после Судного дня? Однако цветет груша посреди болота, как цвели камни посреди тайги...
Нет, я хочу связать это. Я не могу рубить прозу Виктора Козько на две половинки, хотя по чисто читательскому импульсу (нравится — не нравится, близко — не близко) сделать это легко. Но не тот случай. Не тот писатель. Слишком большая боль. Надо искать связь, развязку. Во внутреннем состоянии маленького смертника, шкета, детдомовца, сироты, отлетевшего в небытие из пламени большой войны, — искать разгадку вламывающихся в тайгу рыцарей удачи. у которых на устах магическое слово: ф а р т.
Я не верю в этот фарт, хотя оным словом пестрит сибирская проза Козько. При всем эмоциональном и стилевом напоре — меня останавливает в этой прозе какая-то тайная неуверенность. Она чувствуется и в ткани, и в сюжете повести «Здравствуй и прощай» — при всей внешней ясности. Приехали геологи в тайгу золото искать, а там — Тихон Играшин, местный рудознатец; он им не хочет открыть, где золото, — себе бережет, жлоб, куркуль, кулак. В центре же, меж «полюсами» — вчерашний студент, городской житель, сбежавший в тайгу доказать себе и всем, что он не хлюпик, — еще одна вариация из Горышина — Полухина, «еще один, значит, покоритель Сибири». Вот этот-то студентик, как стрелка, и крутится между куркулем Играшиным, который хочет «фарта» для себя, и геологами, которые тоже фартовые люди, но стараются для общества. Уравнение ясное и, можно сказать, без неизвестных. Правы геологи, конечно, но... повествователь, как заколдованный, ходит кругами около хитрого хозяина, словно не решаясь на окончательный приговор: есть в хозяине какая-то тайная правда, какое-то естественное сродство с тайгой. Во всяком случае, хозяин тоже разрешает какое-то мучающее автора сомнение.
«Открытый финал» повести — вот знак этих сомнений. Виктор Козько не тот писатель, чтобы балансировать из чистого искусства, из любви к художественной тонкописи, как балансируют «открытыми финалами» так называемые мастера акварельного письма. Тут не акварель. Козько пишет — как режет; напор гравера — бумага горит и рвется. Здесь «открытый финал» не прием мастера, а выброс энергии за пределы сюжетного условия.
От этого — ощущение какой-то эмоциональной избыточности в сибирской прозе Козько. Впрочем, не только сибирской. Недостатки его прозы (я имею в виду не те недостатки, которые идут от небрежности и легко выправляются; не то, что у Козько герой идет, «помахивая... головой», не фразы вроде «эвакуатор утихомирилась», — я имею в виду те недостатки, которые суть продолжение достоинств) прежде всего — это вибрирующий напор, тяжелая скрученность текста, загадочность на «ясном месте». Эту прозу, столь «ясную» по идеям и выводам, изнутри рвет и гнет что-то, — словно не з д е с ь решается для него вопрос, — не здесь, где геологи спорят с таежным куркулем..