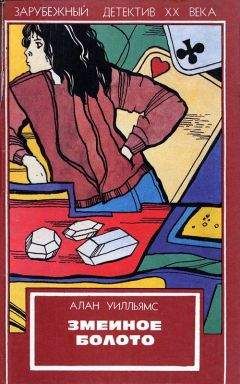Виктор Козько - Судный день
Вспомните Василя Быкова. Виноват или не виноват лейтенант Ивановский в том, что немецкий склад, который ему приказано уничтожить, оказался передислоцирован? А мальчишка, который погибает на Круглянском мосту? С мальчишкой ведь не советовался ни его отец, когда шел в полицаи, ни Бритвин, когда планировал операцию. А дети в «Обелиске»? Это ж тот самый вопрос, который мучит Козько: без них решилось, без них завязалось, — а им развязывать, им расплачиваться. Война не спрашивает — она наваливает ответственность «не глядя», и бессмысленно взвешивать эту ношу: тут или без всякой «логики» берешь на себя и вину, и ответственность, или... Или рассуждаешь, что «тебя не спрашивали», что «это война»... Того пожилого немца, что конвоировал колонну детей и женщин до деревни-схованки, конечно же, «не спрашивали». Тот бедный немец, наверное, не хотел бы загонять их в сарай, облитый бензином. Тот добрый немец плакал, когда вталкивал в сарай Ульяну с детьми.
Это — последняя черта, за которой начинается то, что не измеришь никакой юрисдикцией. Слезинка палача... вот где мы стоим теперь, сто лет спустя после смерти автора «Карамазовых». Вы думаете, тот немец плакал не искренне? Что он не страдал? Нет, страдал. Страдал.
Теперь решайте...
Знаете, мне стало по-настоящему страшно не тогда, когда автор «Високосного года» описывал зверей-карателей. Страшно стало от пролитой палачом слезинки. Страшно, когда оккупант улыбнулся и протянул голодному белорусскому мальчику кусок сахару. Слишком тяжкое испытание для души означает этот протянутый кусок. Над всеми нами простерлась завещанная русскими классиками добрая власть милосердия; все мы, в конце концов, воспитаны на Достоевском и Толстом. На том ощущении, что и преступник — человек, и прежде всего — н е с ч а с т н ы й человек. На том убеждении, что с неизбежностью чувство оскорбления и мести заменяется в народе презрением и ж а л о с т ь ю. Мне стало страшно — от подступающей жалости. Я почти с облегчением принял в «Високосном годе» развязку той сцены, когда мальчишка, схватив сахар, кричит: «Я тебя убью!» Но слишком ясно было, что вопрос, поставленный Виктором Козько, не решается в одно действие. Что это только первый круг хождения его души по мукам.
Да, человечность и милосердие — закон; это всеобщее и последнее оправдание жизни. Но путь к этой в с е о б щ е й и п о с л е д н е й санкции добра лежит через страдания, которые люди берут на себя в реальной жизни и в реальной истории. Да, преступник — несчастный человек, которого надо пожалеть, — так считал Достоевский, но путь к жалости лежит только через искупление и возмездие. Слезинка дитяти оплачивается не символическим возвратом абстрактного билета в рай — она оплачивается тяжким, конкретным, реальным бытием, которое полно нравственной боли. Без этого все наше «добро», все «милосердие» и вся «человечность» становятся легкими и необязательными. Добро не подарок судьбы, оно оплачивается полной ценой. Сгорает душа в страданиях, но еще страшнее сгорает она, когда перед ней — протянутая с сахаром рука. Надо судить. Хотя тот добрый немец, может быть, лично и не сгубил в твоей деревне ни одной живой души. Или ему приказали. Дас ист дер криг. Что делать, война.
Немой вопрос пронизывает белорусские повести Козько: чем утолится горечь без вины виноватых? Из любой складочки текста вдруг проступает эта кровь, эта боль. За красивой вышитой тканью — слезы. Кто вышивает салфеточки в художественных мастерских, разбросанных по безвестным белорусским послевоенным поселкам? Вышивают — «кривенькие и полуслепенькие, и полусошедшие с ума девочки — отходы отгремевшей войны». Ни крестика нет без этой боли. Ни шагу без ощущения того, что человек не виноват в том, как искалечен. Чем виновата некрасивая девушка, что уродилась некрасивой? — думает Андрей Разорка. Легко почувствовать исток такой рефлексии: а виноват ли он сам, что отец и мать подорвались на мине, что мечется между вокзалом и детприемником, что изначально перекошена жизнь?
Это-то вот непрерывное ощущение личной безвинности и опрокидывается в сознании героя постоянным, смутным, невольным «ощущением вины». Это чувство так же «нелогично» и труднообъяснимо, но оно есть; Виктор Козько ощущает его поразительным духовным зрением. Это было уже в «Високосном годе», едва намечено, едва слышно. Но недаром же после «Високосного года» написана «Повесть о беспризорной любви», и гордого «фезеушника», самоотверженным трудом и положительным характером скомпенсировавшего страшное детство, сменил Разорка, волчонок, возненавидевший весь мир за свою беду, или, как там сказано, «на весь белый свет разобидевшийся». До крайнего предела ответной жестокости доводит эту несчастную душу Виктор Козько, чтобы вплотную подвести к «категорическому императиву» личностного решения. Да, ты не виноват в своих несчастьях, но есть только один путь переломить эту карусельную власть судьбы — поставить наперекор ей «нелогичное», волевое решение; акт личности: «я отвечаю».
В этом усилии личности, кругом стиснутой, зажатой, отрезанной, только на себя полагающейся, заключен для меня какой-то звенящий трагический звук, продиктованный опытом именно белорусской прозы. Вспомним еще раз: Рыбак у Василя Быкова был «не виноват», что полицай его перехитрил, «не виноват», что их взяли, «не виноват», что Сотников не вовремя закашлялся. Никто не х о т е л быть предателем, ни тот, ни другой, — обоих несло потоком, и только от внутреннего решения зависело, что Рыбака понесло дальше, а Сотников уперся и встал. Встал, чтобы умереть.
Андрей Разорка, озлобленный, истерзанный, не верящий в добро и жалость, поставлен перед вопросом: есть только один шанс вырваться из заколдованного круга несчастий, в которых не повинен, из зла, которого не хотел, — в з я т ь на себя горечь ответственности. На какой-то крайней точке упереться: жизнь делает меня волком, а я буду человеком. Я встаю поперек. Никто не даст личности извне силу, чтоб сказать так и так поставить себя. Только изнутри. Из «ничего». Из одного духа. Добро не «рождается из зла», как утверждает Байрон устами праотца Адама, — добро надо восстановить как безусловную ценность, как принцип, как своеобразное упрямство духа. Иначе конца не будет карусели: что делать, «всех несет...»
Сила духа для этого нужна — бесконечная. И оттаивает душа — болью, только болью. Гладит тебя жалостливая рука детдомовской воспитательницы, и ты кусаешь руку, пока добряки не срываются, и не начинаешь искать в директорском кабинете «пятый угол», — тогда кричишь торжествующе: видите, вы п р и к и д ы в а л и с ь добренькими! — и, вырвавшись на волю, вымещаешь злобу на всем, что слабее тебя: на доходяге из младшей группы, на щенке, на молоденьком деревце. Изобьешь, изрежешь... а потом все-таки оттаешь, потому что все это — еще не самое страшное испытание, и детдом все-таки дом, и другого нет. Оттаивает душа беспризорника, волчонка, откинутого войной в «отходы», и он уже способен принять протянутую ему руку. И тогда судьба готовит ему последний искус: рука с сахаром. Там, в узком проходе между двумя составами, один — на восток, другой — на запад...
Вот они, немцы, безвредные, обросшие, радостные, без погон. И суют тебе в карманы сахар, и гармошку протягивают губную: играй, мальчик, веселись, не помни зла! Втиснули в руку гармошку, зажали пальцы. И рука будто закостенела. С вытянутой вперед рукой пошел вдоль составов. Овчарки с восточного не удостаивали даже взглядом. Но из запломбированных вагонов смотрели люди. Множество глаз. И эти глаза ненавидели... давили к земле... сжигали...
Это уже голос «Судного дня».
«— Люди! Мир! — бухнул сверху голос Захарьи. — Пуля милосердная. Огонь нужен и камень. Мучить их, как мучились дети мои в огне... Как они горели, как они молили: таточка, лёду...»
Да, знаю, «это война». Палач заплакал, раскаялся, протянул сахар. А можно ли — вернуть то мгновение, когда горели дети? И х вернуть, чтобы о н и простили, а не от их имени — другие, оставшиеся в живых? О т т у д а пусть придет прощение. Двухлетняя девочка должна простить, которая перед смертью мамин платок подстелила, чтобы согреться. Та, у которой слезы замерзли на мертвом лице. Вот ей, ей объясните, что «это война» и что никто персонально «не виноват». Ей, двухлетней. Знаю, потом придут, найдут. Спасут оставшихся. Как ягненка ужаленного спас и выходил байроновский Адам: «Смотри, мой сын, как зло родит добро...» Помните? Вопрос Люцифера: «Что ж ты ему ответил?» — и страшное место дальше:
...Я промолчал, — ведь он отец мой, — только
Тогда ж подумал: лучше бы ягненку
Совсем не быть ужаленным змеею,
Чем возвратиться к жизни, столь короткой,
Ценою мук...
Так вы в е р н и т е к жизни ту сгоревшую, ту застывшую, ту окаменевшую девочку, — о н а пусть простит. «Добро» не украшение и не выигрышный билет. Под ним жизнь, под ним кровь. Не повернешь камень, который называется: то было. Для дальнейшей справедливости есть юрисдикция: степени вины, нормы наказания. Так, но кроме юрисдикции есть право памяти, есть достоинство и чувство необратимости. Литература думает не просто о том, кому сколько причитается, — более всего ее мучает вопрос: как простить? Это не измеришь — это можно только выстрадать. Тяжко оплачивается милосердие. Есть только один путь духовного искупления: крестный. Вместе с той замерзшей девочкой, с теми детьми, что горели и просили: «Лёду!»