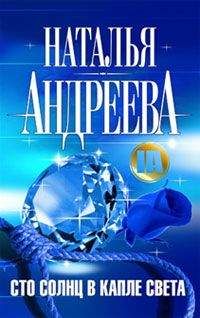Петр Скобелкин - На заре и ясным днем
Едва оттуда вышел. Под пулями этак был сутки и в снегу лежал.
Много писем не ждите.
Одевай, мама, хорошие валенки.
Степанов».
ИВАНОВНА
В глухие зимние вечера, убравшись по хозяйству, женщины собирались обычно в одну избу. Чаще всего к Ивановне, к Степановой. И несли они с собой за теплые стены свои новости, маленькие радости и печали.
Ивановна ставила самовар. Кто приносил с собой кусочек-другой сахару, кто лепешку, испеченную из грубой, непросеянной, смешанной с клевером муки.
Вместо чая заваривали корни шиповника. Рассаживались за столом и начинали свои грустные бабьи посиделки.
Пока самовар кипел на табуретке у шестка, пока копил в себе горячие силы, женщины молча собирались в горенке. На глухой стене висела большая старенькая географическая карта. Ее принесла Марфа Васильевна Сапогова, уборщица школы. Карту уже давно списали как отслужившую свой век. А она вот еще служила. И будет служить этим женщинам всю долгую войну.
От самого Черного моря до Белого на карте отмечена красной ниткой линия фронта. В городах и местах сражений были воткнуты флажки. Почти каждый вечер красная линия неумолимо двигалась на восток. И вот уже флажок недалеко от Москвы.
Женщины смотрели на эту линию, и было им тяжко и непонятно оттого, что она идет не в ту сторону.
Стояли молча, водили пальцами по стертой бумаге карты.
Кто-то с тревогой говорил: «Вчера сдан Гжатск…».
— Как же это так, бабоньки? Опять сдали. Да так ведь и до Москвы недалеко!
Марфа Васильевна, приближенная к осведомленным кругам, авторитетно заявляла:
— Сдали, значит, так надо. Выравниваем линию фронта. Понимать надо.
Бабы не соглашались:
— Как же так они выравнивают?! Не в нашу-то пользу пошто!
Марфа некоторое время соображала, как же ей объяснить все тонкости военной политики. Но так ничего и не придумав, заключала:
— Они-то там, — она ткнула пальцем в потолок, — небось умнее нас. Раз выравнивают, значит, так надо. И я так думаю — заманивают фашиста. Вот как Кутузов заманивал…
— Заманивал до Москвы. А потом французы и Москву сожгли.
— А чем все кончилось? Победой, сами знаете.
— И все-таки что-то уж много мы выравниваем…
Ставили самовар на стол. Разливали душистый чай шиповника. Делили на мелкие кусочки сахар. Кто-то вздыхал:
— Вот моему-то уж не попить и такого чаю…
И одна из женщин, прижимая платок к глазам, уходила за печку и там, уткнувшись в теплый ее бок, плакалась своей горькой судьбине.
Марфа, дав проплакаться, строго командовала:
— Поревела и хватит! Не у тебя одной.
Ласково обнимала за плечи, усаживала рядом.
Некоторое время прихлебывали молча, каждая занята своими невеселыми думами.
Потом, вытерев аккуратно губы, Марфа командовала:
— Ивановна, зачинай.
Ивановна, все это время она молча стояла у шестка и слушала разговоры подружек, садилась за стол, и облокотившись, некоторое время сидела молча. Затем расправляла плечи и начинала негромким низким голосом:
Что стоишь, качаясь,
тонкая рябина…
Женщины вначале робко, а потом смелее и громче подхватывали:
Головой склоняясь
до самого тына.
И когда доходили до слов:
Но нельзя рябине
к дубу перебраться…
у всех в глазах стояли слезы…
Минут пять горевали молча, пока Марфа не подавала команды: «Ну, хозяева, не пора ли гостям спать!»
Бесшумно поднимались и, поблагодарив Ивановну «за угощение», молча расходились.
Усталой или тем более печальной ее никто в доме не видел. Она появлялась всегда неожиданно, и, как ни старалась подкараулить Валя свою маму, чтоб встретить ее, пройти рука в руку через весь двор, ей это редко удавалось. А сегодня вот мать сама задержалась у калитки, и Валюшка первой заметила ее и помчалась встречать.
— А я сегодня опять четверку получила. И Танька тоже, — тут же доложила она матери. А потом вдруг осеклась и замолчала. Мать легонько потормошила ее:
— Чего же ты молчишь! Стряслось опять чего? Говори уж…
Валя остановилась и, не поднимая головы, тихо сказала:
— У Наськи папу на войне убили. Похоронка пришла…
Ивановна знала уже об этой беде в семье Буньковых, горевала вместе с Катериной о такой невозвратимой утрате. И, вот какой грех, вместе с горечью за близких рядом жило радостное ощущение сегодняшнего бытия: «А мой-то жив!.. Пока жив…» Но тут же ей становилось от этих нехороших чувств стыдно, она гнала их и начинала думать о работе, о том, как накормить всех в доме, как выкрутиться. А сегодня ко всем заботам добавилась еще одна: ее и Марфу Сапогову направляют работать на чуркозаготовительную базу. Работа там тяжелая — за смену напилить 15 кубометров чурки. Да это и не всем мужикам под силу! А у них в бригаде мужикам-то и по пятнадцать годков не стукнуло. Ну какой это мужик Саша Расторгуев или Паша Черенцов? Кожа да кости, да и те не окрепли. Но пятнадцать кубометров отдай, хоть умри!
Работу назначили в две смены, и вот сейчас, сегодня Ивановна должна решить сама, когда ей лучше— с 7 утра до 6 вечера или с 6 вечера до 3 утра.
— Мама, я без тебя ночью боюсь, — решила спокойно ее проблему дочка.
— Ну хорошо, не бойся, буду работать днем.
Вставала обычно Ивановна, в 5 утра. Быстренько готовила завтрак себе и дочери и, управившись с хозяйством, торопилась на свою деревянную базу.
Валя дописывала домашние задания и почти вслед за матерью шла в школу.
В обеденный перерыв Ивановна вдруг вспомнила о письме, которое накануне получила от мужа, и решила поделиться радостью с Марфой Сапоговой, своей соседкой по работе. Она отозвала Марфу в сторонку и достала маленький треугольничек с фиолетовым штампом: «Просмотрено военной цензурой». Протянула письмо Марфе:
— Прочитай-ка, что мой пишет, я что-то не все разобрала, — схитрила она.
Марфа понимающе брала конверт и, расправив его на шершавой ладони, по слогам читала вслух:
«28 декабря 1942 года
Добрый день! Здорово мои родители, мама, жена здравствуй и Валя с Людой! Я вам желаю всего хорошего в вашей жизни! Я вам шлю большое спасибо за посылку. Когда я получил посылку, я всем дал по прянику.
Пожалуйста, напишите, как вы живете, какие новости в совхозе.
Вы мне пока не посылайте ничего. Скоро мне придется в действие.
Письма не ждите…
Мой инструмент сапожный храните, пока я буду жив. Мама, храни свое здоровье. Но если я вернусь или не вернусь, раз судьба такая, то меня не забывайте!
Степанов».
— Счастливая ты, Анька, — чистосердечно завидовала подруге Марфа, — а вон у Буньковых-то такое горе…
Обе вздыхали и шли снова к своим рабочим станкам пилить дрова на топливо для тракторов и автомашин.
Вечером, когда худо-бедно отужинали и прибрались, мать села за стол написать письмо Федору.
Начало письма было привычное, и она, не задумываясь, вывела: «Добрый день, веселый час!» Прочитала и горько усмехнулась про себя: «Веселый час…» Но вычеркивать не стала и исправлять тоже. Подумала еще и написала вторую, тоже не соответствующую правде, но нужную фразу: «У нас все хорошо…»
Дальше сообщала новости: «Мы с Марфой сейчас за старших работаем на чурке. Работа нравится…»
Она выпрямилась и почувствовала вдруг, как заломило поясницу: десять-то часов в день за пилой да топором — шутка в деле!
«…Мы сыты, одеты и обуты. Недавно провели стахановский пятнадцатидневник, заготовляем дрова для школы. Вот, значит, и Валюшка наша будет в тепле учиться…
Береги свое здоровье, не простужайся!»
Она остановилась, думая, что бы еще написать. И тут увидела Валюшку. Девочка плакала.
Ивановна встала, обняла ее за худенькие плечи: «Что это с тобой?»
Валя показала на свое платьице, которое сняла и держала сейчас в руках. Ивановна взяла его и ахнула. Она сейчас только заметила, что было оно все в мелких дырочках, истертое, как будто молью изъедено.
— Ну ничего, ничего, — успокаивала она дочь. — Сейчас мы его ушьем, будет как новое.
Но из ушивания ничего не вышло — платье настолько было ветхим, что, только стоило потянуть за иголкой нитку, ткань его тут же разъезжалась и дырки становились еще больше.
Ивановна уронила руки на колени. И не плакать ей хотелось в ту минуту, а зареветь по-бабьи, в голос. С трудом сдержалась. Встала. «Пойду куриц накормлю». Вышла в сени и там, уткнувшись лицом в ладони, разревелась…
Все выплакала и вспомнила в те горькие минуты, как подарил ей Федор перед самой войной крепдешиновое платье и новенькие туфли. Вале, как Валюшке в школе при всех вручали за отличную учебу после окончания четырех классов новенькое цветное платьице… И как потом, через полгода, в мороз ходили они с Валюшей по деревням и меняли свои наряды на картошку. За крепдешиновое платье дали 3 ведра картошки, за Валино одно ведро. Так вот и не удалось ни разу на людях в них показаться. Только дома и примерили…