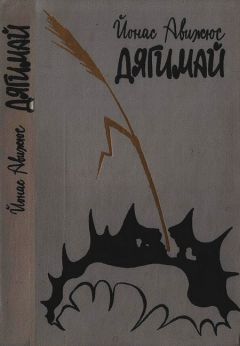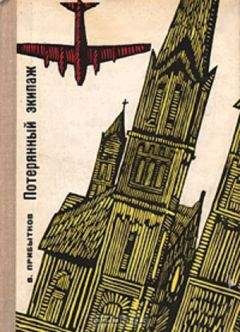Йонас Авижюс - Потерянный кров
О, если бы он знал, чем обернется это путешествие за вечером детских лет! Если бы заранее, до того как это случилось, увидел гостей, набившихся в горницу Габрюнасов, услышал крики, пьяные песни… Словом, впитал бы в себя весь хмельной угар, который охватывает людей, живущих в неизвестности и нашедших в водке успокоение. Ему сказали: «Послезавтра рождество. Позовем соседей, кое-какие родственники приедут. Как хорошо, что вы нас проведали, господин Джюгас! Вместе отпразднуем рождение младенца Иисуса». Но эти слова прошли мимо ушей, как звон пустой посуды. Он все еще жил как во сне, где все происходит само собой, без воли человека. Ужинал, потом завтракал и обедал за столом Габрюнасов, парился в баньке, а перед тем соскреб бритвой хозяина четырехнедельную бороду. А еще раньше без зазрения совести выспался, вшивый, в чистой постели. Куда там! Даже злорадствовал, словно в грязи, которой он набрался в своих блужданиях, частично повинны и Габрюнасы. Проснувшись поутру, обнаружил на спинке стула отутюженные брюки, выстиранное белье. Поблагодарил, но скорей машинально, — в сердце не было ни капли благодарности. И совсем этому не удивился. Правда, было странно, как он может сидеть за столом, есть, пить праздничное пиво, глубоко презирать этих сытых людей и одновременно кивать, улыбаться и отбиваться стандартными словечками. («Благодарю покорно», «Спасибо, охотно попробую», «Что вы! Очень даже вкусно, госпожа Габрюнене»). Ему было тошно от звонкой чистоты горницы, святые образа и семейные фотографии под чистыми, как слеза, стеклами оскорбляли взор, и он, кое-как справляясь с раздражением, думал: «Надо бы каждого из этих чистюль пропустить через тот адов котел. Тогда бы здесь не пахло праздничной булкой».
В сочельник его усадили на почетное место — между хозяевами. Напротив — Рута, оба младших брата, мальчики двенадцати и тринадцати лет. Вкусно пахло маковым молоком, селедкой в постном масле, квашеной капустой. Без девяти блюд не сочельник. И без пшеничных прозрачных облаток — «пирога младенца», — положенных рядом с горстью сена, символизирующей ясли Иисуса. На несколько мгновений он как бы ослеп. Исчезли горница, стол, Габрюнасы. Он увидел другую горницу, другой стол и другие лица. Своих отца и мать, бабушку, сестру Анеле и брата Миколаса. И себя, старшего сына, между отцом и матерью. Отец встал, перекрестился, разломал облатку и торжественно роздал всем.
«Благослови кров наш, господь. Чтоб и на другой сочельник все собрались за этим столом. Внемли нашей молитве, господи, будь милостив к детям своим. Аминь».
— Кушайте, господин Джюгас, просим. Небогатый стол, да что поделаешь — сочельник, пост. Завтра разговеемся.
— Разговеемся… — буркнул он, мутным взглядом обежав стол. — Разговеемся… Мы-то уж разговеемся, госпожа Габрюнене…
Рута почтительно улыбается. Ласково скалится во весь жирный рот Габрюнене. Празднично-сурово лицо Габрюнаса. Мир, покой, благодать. А как же, завтра — великая радость для всего человечества: родится младенец Иисус, искупит грехи людские.
— Мы-то уж разговеемся… Разговеемся… — повторял он, не мог отвязаться от этого слова и чувствовал, что все недавно пережитое с новой силой засасывает его. Серо-зеленый следователь, черные привидения с засученными рукавами. Лица, искаженные пыткой, смрад жженого мяса. Где искупитель, где же искупитель?!
Гедиминас встал, отодвинул тарелку. Слова шмякались, как тела убитых в яму. Недобитые, полуживые. Покрытые запекшейся кровью, дергающиеся в предсмертных судорогах. С переломанными костями, выдранными глазами — пародия на самое прекрасное творение природы… Вы видели все это, господа Габрюнасы?
Как они берут человека, которого, как и нас, родила мать, и медленно, капля за каплей, высасывают кровь, ниточка за ниточкой выдергивают жилы, а потом, когда остается мешок костей и мяса… Вы видели все это, скажите?
Улыбка угасла на лице Руты, молодецки закрученные усы Габрюнаса поникли, как стебли от внезапной жары.
— Хватит, хватит… — шептала Габрюнене, закрыв ладонями оплывшее лицо. — Пожалуйста, господин Джюгас… Такие ужасы при детях…
Но Гедиминас не мог совладать с собой. Лопнул фурункул, и он со злобной ухмылкой глядел, как из нарыва хлещет гной, распространяя ядовитый смрад, от которого серели лица и застывали в ужасе глаза. Отравились! Так им и надо! Никто не вправе дышать чистым воздухом, когда земля окутана клубами испарений. Никто! Даже дети.
— Вам повезло, господин Джюгас, — сказал Габрюнас, когда Гедиминас наконец замолк. — Из такого пекла вырваться целым и невредимым… не шутка.
— Оттуда никто не выбирается целым, господин Габрюнас. Раньше, если хотите знать, я не мог спокойно пройти мимо человека, если тот страдал. А после всего, чему был свидетелем… Иногда кажется, я мог бы теперь убить этого страдальца, если б знал, что он негодяй. Нет, господин Габрюнас, оттуда никто не выходит целым и невредимым. Это фабрика смерти, где одних, к их счастью, приканчивают сразу…
— Я понимаю вас, господин учитель, — сказала Рута.
— Понимаете? Вы?! — Он удивленно поднял на нее глаза и тут же опустил их: таким ослепительно чистым, пылающим внутренним огнем был ее взгляд. (Класс. Вызывающе выпрямившаяся девушка в строгом гимназическом платье. «Я так верила в вас, господин учитель, так верила…») — Не знаю, что вы имеете в виду, Рута, но я бы не хотел, чтоб вы еще раз во мне разочаровались. Я не герой, хоть и попал туда. Я не вернулся к старому алтарю, который оплевал, и не нашел нового. Я смеялся над компанией Туменаса. Но они знают, за что будут страдать. А я? Наивный путник, не взявший палки, хотя и знал, что деревня полна бешеных псов.
— Мы чересчур долго боролись с немцами словами, господин учитель.
Он ничего не ответил. Наверное, удержало кислое выражение на лице Габрюнене. (Габрюнас недовольно крякнул: «Борец в юбке. Ишь ты, захотела мир перевернуть».) Но потом не мог заснуть, хоть и осоловел от жаркой бани и сытного ужина. «Чересчур долго боролись словами…» Нет, эта мысль была не новой. Он не знал, когда она возникла у него, но ужа на могиле Милды он мог произнести эти слова. Правда, тогда он счел бы их запоздалым выводом (непоправимая ошибка, и все), а теперь знал, что здесь нельзя ставить точки, что есть какое-то продолжение этой мысли — он о нем догадывается, но не смеет додумать до конца. Ведь додумать до конца — значит принять решение. Он понимал, что нужен лишь легонький толчок, и был уверен: раньше или позже это случится.
И когда на следующий день в горницу Габрюнасов набились гости, ему стало ясно: пробил час. Охваченный странным чувством (моряк, который видит, как удаляется родной берег, и знает, что туда не вернется), он смотрел на гудящие столы, уставленные мисками и кувшинами, и с горечью думал, что эти люди собрались сюда лишь для того, чтобы набить желудок, напиться и, опорожнившись, начать все сначала. Святая обязанность каждого — как можно больше пропустить через свой желудок. Сальные подбородки… Осоловевшие глаза… Рты… Глотающие, жующие, давящиеся лакомым кусочком, изрыгающие рев. Скоты… Еще вчера он бы осудил их, высмеял, не выделяя из этого стада и себя, а сейчас вместо презрения были жалость и чувство своей ответственности за все это. Да, ответственности, «…поскольку, — думал он, — я уже понял, а они еще не могут понять. Мое горе, излей даже я его за этим столом, было бы лишь рассказом, а не их собственным чувством. Итак, говоря словами Христа: они невинны, ибо не ведают, что творят. А я?»
— Выпьем, господин учитель. Так или сяк — один конец.
— Да уж, сегодня — молодец, завтра — мертвец.
— Вот и я так говорю. Завтрашний день не лошадь, не купишь, в зубы не посмотришь. Так что милости просим, не побрезгуйте, господин учитель, — приставали к Гедиминасу со всех сторон.
Он машинально поднимал стакан, чокался с соседями по столу, пил не меньше других, но не пьянел.
— Верно говоришь, Йокимас, завтрашний день не лошадь. Бей, пока лежит, валяй, пока… Ха-ха-ха! Большевики придут, все дырочки заткнут.
— Гуляй, сосед, пока гуляется!
Пивка! Пивка! Хозяин, пивка!
Янтарного пива
Налей-ка нам живо!
Пивка! Хозяин, пивка!
— Господин учитель… Потише, чего разорались, дайте потолковать с ученым человеком. Вы же умный человек, господин учитель, скажите, неужто большевики немцев побьют?
— Да не дури ты ему голову. Жалко тебе их, немцев-то? Учителей арестовали, гимназию закрыли. Выбросить наших детей на улицу, а на их место солдат поставить… Друзья нашлись! Таким только в морду да под зад коленкой. Вон в свой фатерланд!
— Будет драться-то. Посмотрим, что запоешь, когда красные комиссары прикатят.
— Не прикатят, не бойся: англичане с американцами их за шиворот схватят. Снова будет Литва!