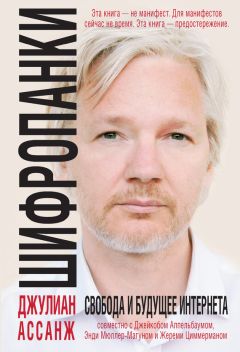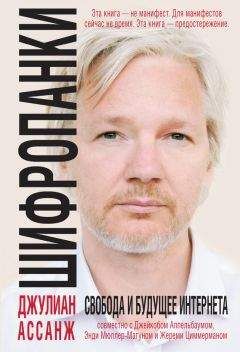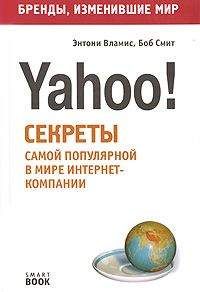Михаил Алексеев - Ивушка неплакучая
— А ведь вас, милые, надо судить!
— Вот те раз! И эта туда же… Да вы что, сговорились с Леонтием Сидоровичем? За что же, теть Матрена, судить? — спросил на всякий случай Минька, поигрывая черными глазами.
— За что? — точно эхо, повторил Грипька.
— За радиохулиганство — вот за что! — выпалила в сердцах Штопалиха. — Приобрели где-то энту вон штуковину, базаните на чем свет стоит, теперя от вас всему Завидову спокою не будет. Нешто так можно! Понакупи-ли… деньги, знать, у вас бешеные завелись. На сберкнижку бы, про черный день, положили, а вы транжирите… Но-чесь, слушаю, — гыр-гыр-гыр. И днем — опять то же…
— Ночью нас не было, теть Матрена.
— Аль вы одни такие! Полно село теперь этих гыр-калок. Только было прилегла с устатку…
— Воскресенье же сегодня, выходной…
— Ну так что ж, что выходной? В выходной-то только бы и отдохнуть, а вы…
— Что — мы? — спросил озорной Минька.
— Что — мы? — повторил за ним Гринька.
— Хорошо, ребятки, когда все в норме. — Штопалиха критически осмотрела их, поморщилась. — Что пупки-то выставили, бесстыжие ваши зенки? И штаны — в обтяжку, как только втиснули вас в них! Все как есть выпирает… глазыньки бы мои не глядели. А небось к девчатам трапитесь?
— К девчатам, тетенька Матрена. Это вы в самую точку.
— Точку нашего теперя днем с огнем не сыщешь. Было две бригады, а сейчас аж шесть подстегнули к нашему колхозу. Тоже, видать, меры не знают с энти-ми укрупнениями. Мотается, сердешный, цельными днями по шести-то деревням, ни сна, ни отдыха не знает. Домотается, останется, пожалуй, одна Занятая от Точки этого…
— Да я не про председателя говорю! — засмеялся Минька.
— А я про него… К девчатам, значит?
— К ним, — подтвердил Минька и, ухмыльнувшись, добавил: — А насчет нормы… это вы своей Надёнке скажите. Мини-юбка на ней явно не по норме. А она ведь давно замужняя. Могла бы и…
— Могла бы, — согласилась, не дослушав, Штопалиха, — да ума-то у нее нету, так же вот, как у вас. И чего это воинский начальник глядит — давно б в армию, лоботрясов!
— Это мы-то лоботрясы?
— Вы. Кто ж еще?
— Ну ты, тетенька Матрена, тоже не переработала. Вон шея-то у тебя какая толстая…
— О моей шее, ребятишки, лучше помалкивайте. Долго еще вам на материных шеях сидеть…
— Мы ни на чьих шеях не сидим, — осерчал Минька. — И лоботрясами ты зря нас обозвала, тетенька Матрена. Видала, что в районной газете про нас с Гринькой написано?
— Не читаю я вашей газеты, Миня. Очков вон во всей области не сыщешь. Разучились, знать, делать их. В космос, в самые аж небеса, научились летать, корабли разные, поднебесные, строить, а с очками пром… пром… промблема выходит. А глаза у меня старые, без очков ничегошеньки не вижу ими, корову и то дою на ощупь… Ну, ребятки, уходите, Христа ради, подале от моего дома. Дайте старухе покою.
— Очки мы тебе раздобудем, тетенька Матрена!
Минька и Гринька, обнявшись, пошагали дальше. Заглушая поросячье повизгивание транзистора, запели старую рекрутскую песню:
Рекруты гуляют гоже,
А я, мальчик, с ними тоже.
Запевал Минька, Гринька — со своим басом — на поддержке:
Рекруты вы, рекруточки,
Ва-а-ам — последние денечки-и-и.
Прекратив пение, кого-то окликнули:
— Эй, Мить! Пошли в Кологривовку — там свадьба. Маньку Егорову просватали! Пойдем — глянем на нее в последний раз!
«Воинский начальпик», то есть райвоенком, помнил про свои обязанности не хуже старой Штопалихи. Осенью Гриньку, его друга Миньку и еще о десяток парней из Завидова призвали в армию — «забрили», как констатировала настоящий факт Матрена Дивеевна, прослышав об этом событии. В последний день проводов, занявших, как это и бывает на селе, около двух недель, беседуя чинно-мирно с представителем военкомата, приехавшим для сопровождения завтрашних воинов, Мария Соловьева не удержалась, чтобы не напомнить ему:
— Берите наших соколят. Одни мы, бабы, без мужьев, взрастили вам новых солдат. Воюйте, коли опять придет к нашему порогу такая беда. Минька и Гринька, сынки наши, не подведут. Правда, Стеша?
Та закивала головой — сказать ничего не смогла, поднесла опять — в какой уж раз за эти две недели! — угол платка к глазам.
У Дальнего переезда, где остановились грузовики с провожающими, чтобы распрощаться с «рекрутами», объявились Тимофей Непряхин и Архип Колымага. Они находились тут, точно в засаде, с самого утра, ждали. Тишка, озираясь, посматривая, нет ли среди провожающих Антонины или кого-либо из его дочерей, подошел к Миньке, а Колымага — к Гриньке. Лесник развернул пакетик, показал новенькую, последней конструкции, электробритву, заговорил, необычайно взволнованный:
— Это тебе, Григорий. Подарок…
— От кого? Зачем? — перебил его Гринька, вопросительно глядя то на лесника, то на свою приемную мать, не зная, как ему поступить…
— Бери, бери! — настойчиво продолжал Колымага, силой всовывая коробок в Гринькины руки. — В солдатской жизни пригодится.
— Возьми, сынок, — сказала мать, — не обижай старика.
— Да ведь дорогой уж очень подарок-то, дядя Архип!
— Бери… дядя Архип не самый бедный человек в Завидове. К тому ж… — Тут он осекся, сейчас же убрал куда-то с побагровевшего вдруг лица свои глаза, спрятал их и натужно, неправдоподобно закашлялся. — Бери… кхе-кхе… не разоришь!
Еще весною был прислан этот подарок не известной ни Гриньке, ни его приемной матери городской женщиной, но Архип Архипович Колымага, возложивший на себя по доброй своей воле посреднические обязанности, не торопился с его вручением, попридержал, рассудив, что «дорого яичко к Христову дню», что будет куда лучше и торжественнее, ежели он поднесет подарок в день Гринькиных проводов. Особенной торжественности, однако, не получилось, поскольку Колымага малость стушевался, вел себя не совсем натурально, но дело было сделано: волю далекой страдалицы он исполнил, завтра же пошлет письмо «до востребования», оповестит ее об этом и хоть тем немного порадует…
Что же касается до Тишки, то оп, теряясь и тушуясь не меньше Колымажьего, преподнес внебрачному своему сыну Миньке, самодельный складной нож, изготовленный по его, Тишкиному, заказу Алексеем Ивановичем Климовым, лучшим в районе кузнецом, проживающим в соседнем селе Монастырском. Рукоять ножика была исполнена из разноцветных кусочков плексигласа и переливалась теперь в Минькиных руках, точно пойманная радуга или жар-птица. Поначалу Минька тоже, как и его товарищ, не решался взять, вопросительно глянул на мать; встретив, однако, ее легкий поощрительный кивок, взял и теперь перебрасывал подарок с ладони на ладонь, словно ему кинули в пригоршню непогасший уголек.
28
Торжественными проводы призывников получились на главной площади районного поселка. Введенные Кустовцом, с годами они стали традиционными и вылились в большой, хоть и внекалендарный, праздник. Самому же основателю ежегодных празднеств пришлось в эти лета испить полную чашу терпкого напитка, вытекавшего из бесконечных организационных пертурбаций, ставших как бы знамением того времени. Уже помянутые выше «Записки» продолжали поступать во все возрастающем количестве и, нетерпеливые, не дожидались, когда их обсудят на местах, сейчас же превращались в директивы. Как уже сказано, в конце пятидесятых годов было в тех «Записках» много здравого, разумного, продиктованного трезвым рассудком быстро текущей и меняющейся жизни, — тогда Кустовец, не щадя ни себя, пи других работников райкома, приступал к их немедленному и неукоснительному исполнению. Так, например, поддержав решительным образом Виктора Присыпкина-Точку, первым переведшего колхозников на денежную оплату, он постановлением бюро районного комитета партии заставил сделать то же самое и других председателей, сломив отчаянное сопротивление некоторых из них, пошедших на поводу «отсталых настроений», как указывалось в заключительном документе того памятного заседания. Первым в области район Кустовца перешел на раздельную уборку хлебов, встретив поначалу и тут немалое число сомневающихся.
Особенно упорствовали деды, припугнувшие селян тем, что хлеб непременно сгниет в валках, «потому как тут, у нас, на правобережном Поволжье, дождичек спущается как раз не ко времени. Только зачнем уборку, а он, милушка, тут как тут», — напоминали они. «Косить и молотить напрямую комбайном! Никаких разделений! — кричали до хрипотки на собраниях, длившихся с вечера до самого утра. — Не дозволим гноить пашеничку! Вредители вы там все! — орали в лицо представителя райкома или райисполкома, который комкал в руках платок, выжимая из него пот, непрерывно собираемый с иокрывав:-шегося испариной лба. — Не да-ди-и-им!..» Пришлось самых рьяных крикунов и бузотеров пригласить в район на специальное собрание, которое нарекли — видать, для того, чтобы польстить старикам, — активом колхозных ветеранов. Сославшись на опыт кубанских и целинных сеятелей, Кустовец не один битый час, а целых три таких часа доказывал прогрессивность раздельной уборки, но вряд ли преуспел бы, если бы его не поддержал Апрель, неожиданно для ветеранов переметнувшийся на сторону секретаря райкома.