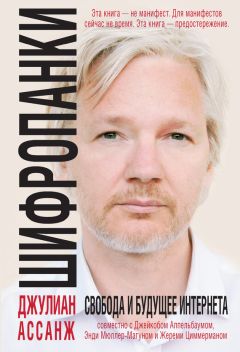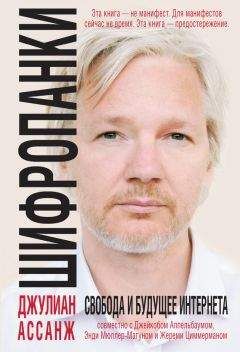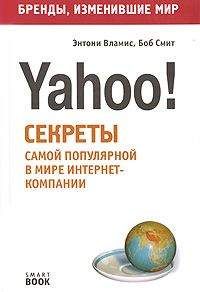Михаил Алексеев - Ивушка неплакучая
На следующий день, вечером, вернувшись с работы, они вместе перенесли Танино «приданое», поместившееся в одном узелке и крохотном, чуть побольше дамской сумочки, чемодане, в Федосьину избу. Наутро с благословения председателя колхоза Точки Павел Угрюмов подцепил бульдозером Танину халупу под старые немощные ребра и в один час стер ее с земного лика. На далекую заставу полетело к Филиппу письмо, строго и сурово излагавшее материну волю. Через месяц пришло ответное, которым Таня вызывалась на границу. Огорченная малость тем, что не пришлось сыграть свадьбу у себя дома, Феня проводила невестку до самого аж Саратова; Точка ссудил им для этого свой «газик», заметив лишь нарочито строго:
— Охраняйте только там нас лучше, надежней. Глядите в оба. У нас тут дел — во! — и он чиркнул ребром ладони по своему выпятившемуся острым клином кадыку.
— Хорошо, дядь Витя! — сказала Таня, покраснев.
— Жаль мне отпускать тебя, Танек. Где найдем мы тебе замену и на тракторе, и в комсомольской организации? Настёнка ведь за голову схватилась, когда узнала…
— Найдете, Виктор Лазаревич! — звонко кричала она, уже сидя в машине, рядом с водителем, которым вызвался быть в этот раз Павел Угрюмов, могущий в любой час с трактора пересесть на комбайн, с комбайна на автомобиль, как, впрочем, и большинство завидовских работяг-механизаторов.
— Что поделаешь! — сказал напоследок председатель. — Придется искать. Точка. А ну высунь мордаш-ку-то свою, дай поцелую, пока моя Запятая не видит. Жуть ревнива, черти ее задери!.. Ну а теперь мчись, Танек, кланяйся там от всех нас Филиппу. Скажи, что мы сейчас покрепче стоим на родной для него завидовской земле. Счастья тебе, Танек, с Филиппом, долгого и прочного. Приезжайте, не забывайте родимых краев.
Стоявшая в сторонке Аграфена Ивановна наказывала сыну и старшей дочери:
— На обратном-то пути к тетеньке Анне загляните. Совсем плоха, слышь, стала. Проведайте — как там и что с ней.
— Проведаем, мама. Непременно! — крикнула Феня уже с покатившейся по улице машины.
27
— Куда денешься! Время не чарочка-каток. Оно, милый, не покатится к тебе в роток, — изрек как-то склонный к философскому мудрствованию в стремительно летевшие под гору свои лета Максим Паклёников, поучая озорного, так и застрявшего где-то по пути в своем росте Миньку Соловьева, не замечавшего своих лет, нередко забавы ради хаживавшего с ватагою малолетней ребятни в чужие сады и огороды. — Тебе, Михайла, уже вон какой годок пошел, а ты все еще по-телячьи хвост морковкой держишь. Слов нет, тракторист из тебя вышел добрый, не хужее, чем из твоего дружка-приятеля Гриньки, а в поведении, как была у тебя в школе двойка, так и…
— Четверка, — обиженно буркнул Минька, свесив перед стариком чернокудрую голову.
— Ты мне не перечь, — шумнул на него старик, — я знаю, что говорю. Ежли учителка ставит четверку по твоему поведению, значит, ты, Минь, и двойки не заслужил. Четверка тут — форменная приписка, чтобы тебя, шалопая, не оставлять из-за этого самого поведения на второй год. Можа, не так?
Минька молчал, пряча плутоватые, шустрые, как у хорька, глаза, покорно ожидая, когда старый Паклёников прочтет свою проповедь до конца и, смилостивившись, отпустит его с богом. Минька привык к стариковским поучениям, выслушивал их обычно молча и терпеливо, изобразивши на плутоватом своем лице знаки исключительной почтительности, а потому и был любим дедами. Так же вот недавно стоял он перед бывшим председателем Леонтием Сидоровичем, добровольно возложившим на себя обязанности полевода и строго следившим за тем, чтобы молодые трактористы пахали как положено, не портили земли. Он мог появиться на поле в самое неподходящее время, тогда, когда его никто не ждал, как это и случилось прошлым утром.
По зяблевому полю, отбрасывая впереди себя неяркий свет фар, один за другим ползли тракторы. Это ночная смена, в основном — молодежь, из ветеранов был лишь Павел Угрюмов. Гринька, как всегда, держался за Минькой и чуть было не наехал на его плуг, потому что дружок почему-то вдруг остановился.
— Чего встали? — окликнул их сзади Павел.
— Минька перекур объявил! — весело ответил из темноты Гринька.
— Никаких перекуров! — закричал Павел.
— Тоже мне бригадир отыскался! — откликнулась обиженно темень голосом Миньки. — Что же мне, в штаны?..
— Это уж твое дело, — резонно заметил Павел, — помни только, к утру, до пересменки, мы должны закончить этот клин.
— Без тебя знаю. От сестрицы, поди, научился, командовать! — в последний раз огрызнулся без особой, впрочем, злости Минька.
А поутру все они были уравнены общим нагоняем. Свалился как снег на голову Леонтий Сидорович Угрюмов, прошелся по борозде, примерился четвертями, крякнул и взмахом руки, точно граблями, подгреб к себе всю троицу, приготовившуюся было «зашабашить», то есть смениться и задать в будке веселенького храпачка.
— Михаил, ты комсомолец? — осведомился старик совсем вроде по-доброму.
— Комсомолец, дядь Лень! — охотно ответил не подозревавший стариковского коварства Минька.
— А ты, Григорий? — глянул Угрюмов-старший на предлинного юношу.
— И я тоже. Нас, дядь Леня, вместе с Минькой принимали…
— А вот и зря. Завтра же поставлю вопрос, чтобы вас поганой метлой вымели из комсомола, — голос старика окреп, озвученный металлом, загудел прежним, председательским, басом. — За что, спросите?.. Да за воровство! Нет, не за воровство за грабеж со взломом!..
Ребята хмыкнули. Старик грозно одернул их:
— Что скалитесь? Думаете, шутит старый Левонтий или из ума вышел? Нет, голубчики, покамест еще в полном разуме он. И не до шуток ему. Да, да, воры вы и грабители!..
— Да кого же это они ограбили? — вступился за младших своих товарищей Павел. — Что ты говоришь, тять?
— А ты помалкивай. И не отделяй себя от них; — остановил сына Леонтий Сидорович. — Кого, спрашиваешь, ограбили? Да всех! И страну, и своих односельчанов, да и самих себя — всех как есть! Но это было бы еще полбеды. То, что вы обкрадываете нас, живущих вместе с вами, нехорошо, подло с вашей стороны. Но вы запустили руку в карман и к тем, которых еще нету на свете, которым еще предстоит когда-то родиться — завтра, через год, через сто лет…
— Что же, так всех мы их и ограбили? Что-то, дядь Лень, я не пойму… — потерянно обронил Минька.
— Глупый, потому и не понимаешь, — сказал старик уже потише, только с нескрываемой горечью в голосе. — Поглядите, мошенники, что вы наделали за эту ночь! Кто же запускает так глыбко лемеха? Вы ведь мертвую глину вывернули наверх и завалили ею, похоронили заживо детородящую почву, то есть испортили вконец нашу кормилицу землю, какая досталась всем нам даром на вечные времена как неделимый фонд для всех поколений людей. Молчите?.. Стыдно?.. Ну простил бы я еще вот их, Миньку и Гриньку, — молоды и дурные по молодости. Но ты-то, Пашка, куда глядел?! Почему не остановил трактора, не отладил плуга?.. А еще в партию собрался вступать!.. Нынче же предупрежу всех, чтобы не давали рекомендаций!.. — Сказав это и оставив пахарей в крайнем замешательстве, старик удалился; долго еще перед их пригорюнившимися очами маячила его сутулая, широкая и сердитая спина.
В комсомоле Гринька и Минька, конечно, остались, хотя и получили там дополнительную баню. А Павел долго еще не решался просить о рекомендациях в партию. Старики, однако, продолжали следить за каждым шагом молодых завидовцев и корректировать их с высот своего житейского опыта. Следующее нападение на Миньку и Гриньку совершила Штопалиха.
Было это в воскресенье. Минька и Гринька, передав тракторы сменщикам, вернулись домой, принарядились и теперь прогуливались по Завидову. Оба в клетчатых рубахах, входивших тогда в моду и завязанных где-то у пупка узлом, с настежь распахнутыми воротниками и расстегнутыми пуговицами, беспечно шествовали по улице. Гринька, длинный и сухой, как колодезный журавель, нес свою маленькую голову где-то высоко над кучерявой и оттого казавшейся большой головой низкорослого Миныш, у которого на перекинутом через шею ремне висел, елозя по животу, новенький транзистор. Включенный на полную мощность, он издавал какие-то ужасные, оскорбляющие человеческую душу, терзающие слух кошачьи звуки. Минька весело приборматывал тоненьким, почти девичьим голоском:
— Там-там, та-ра-рам.
Гринька подставлял под этот тенорок свой не вполне оформившийся бас:
— Пом-пам, пом-пам, пам-пам-пам…
В эту-то веселую для них, без единого облачка на сердце, минуту и выступила на сцену, то есть на улицу, Матрена Дивеевна Штопалиха. Попросила:
— Погодите, ребята.
— Что, теть Матрена? — Гринька, добрый и, как известно, мягкий по характеру, первым подошел к старухе. Дождавшись, когда подойдет и тот, с этой горластой штукой на голом пузе, старуха спокойно и убежденно объявила;