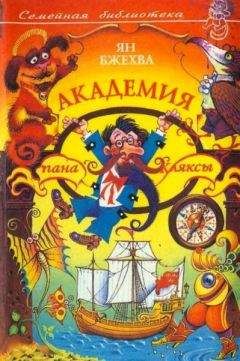Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
Я закрыл дверь за гостями и, не прося больше никаких услад у этой жизни, рухнул на диван и воткнул рога в жесткий валик.
Проснулся от надрывного телефонного звонка. Звонила соседка с нижнего этажа Рахиль Исааковна Файнберг.
— Виктор Викторович, что у вас происходит?!
— Что? Ничего. Я сплю.
— Нас заливает!!! Боже мой, наша библиотека!
Мои соседи были людьми интеллигентными и тихими, ибо представляли собой союз литературного критика с театроведом.
Я бросил трубку и кинулся в ванную. В коридоре вода была уже по щиколотку.
А когда открыл дверь ванной, то с трудом устоял на копытах — такой девятый вал вырвался на простор.
Розы!
Розы заткнули шпигат, и вода давным-давно лилась через борта.
Видели памятник «Стерегущему»? Как хлещет в открытый героическими матросами кингстон Японское море?
Вот и я увидел.
Добавлю одно: лишь какую-то неделю назад Рахиль, закончив труд Сизифа (монографию обо мне), свершила уже подвиг Геракла — отремонтировала свою квартиру.
…Все правильно окрест, как в пушкинской тетради раз навсегда, впопад, и только так, как есть.
Ремонт Рахили пришлось повторить.
В 86-м на старом лесовозе последний раз прошел Арктику: Мурманск — Колыма — Певек — Игарка. В Игарке распрощался с судном.
Третьи сутки сижу в аэропортовском бараке, жду самолет на Нижнюю Тунгуску и Красноярск.
«Нет погоды».
Перестройка. Уже грохнул Чернобыль и утонул «Нахимов». Солдаты-пограничники размешивают сапожную ваксу вместе с дегтем в денатурате. Пьют и остаются живыми. Пущай наши внутренние и внешние враги тешат себя надеждой на скорую гибель России. Долго им придется ждать…
В единственном продовольственном магазинчике аэропорта висит объявление: «Сухое молоко отпускается детям до 12 лет строго по справкам». На дверях камеры хранения мелом написано: «Мест нет и не будет».
Народ в бараке валяется в четыре яруса. Сижу верхом на чемодане, как король на именинах. Духота, мат, детские рыдания, но под потолком барака мерцает телевизор. Правда, экран размером с книжку начинающего писателя, а изображение вовсе чахоточное.
Плевать мне на СМИ. Прощаюсь с Арктикой. Первый раз прошел ее тридцать три года назад. Быстро промелькнула жизнь.
Объявляют посадку. Народ тянется на взлетное поле понуро и в молчании.
И вдруг знакомый голос из далекой Москвы, из-под притолка аэропортовского барака: Та любит твердь за тернии пути, пыланью брызг предпочитает пыльность и скажет: «Прочь! Мне надобно пройти». И вот проходит — море расступилось…
… Раз так пройти, а дальше — можно стать прахом неизвестно где.
Прощеное воскресенье
1997 год.
Б. Ахмадулина — В. Конецкому.
Витя!
Проснувшись сегодня утром, с удивлением заметив, что опять жива и рада этому, уставившись в окно на зловещую погоду, я так ясно вспомнила тебя, засмеялась своей удаче — что ты есть, что я тебя знаю, не боюсь и непременно когда-нибудь тебя увижу. Привет тебе и благодарю тебя.
Ведь мне не нужно тебе говорить, что не потому пишу тебе, что мои тоска и мерзость достигли совершенства, а наоборот — от радости к тебе. С горя — никогда не стала бы писать, чтобы не утруждать тебя еще и своей печалью. И вообще, как ни странно, — мне хорошо. Это совершенная правда.
Просто все так долго превращается в письма.
Мне кажется, что тебя нет в Ленинграде, а как ты — я знаю: хорошо.
Благодарю и целую Любовь Дмитриевну, перед которой я виновата: я встревожила ее своим первым визитом, а вторым не успокоила, потому что раньше уехала.
Вот что мне недоставало: написать тебе, подтвердить себе твою реальность. Написала — и с бодростью берусь за работу, которую должна сдать.
Пока, Вик, целую тебя.
Белла
Витя, у нас все распалось: Юра болен, я как-то особенно стала глупа, посуда разбилась, потолок протек.
Я как-то вся дрожу, но зато пишу много.
Юра чувствует себя хорошо, и это мешает ему лежать — а лежать еще долго.
Не забывай нас и дальше, мы очень любим тебя.
Белла
Витя, приезжай, я тебе дам прочесть рассказ. Будем с тобой не пить, дружить и хвалить друг друга. Целую тебя.
Белла
Милый и родимый Витя, довожу до твоего сведения, что ты мной любим, и мои молитвы часто звучали в твою пользу, хоть я и знаю, что это бесполезно, и твоя бледная, воспаленная худоба по-прежнему реет и бьется о ленинградские углы.
Чтобы не преувеличивать твоей трогательности, напоминаю себе, что ты достаточно глуп, упрям и живуч, и снабжен апломбом, столь свойственным старшим помощникам капитана, да еще не по заслугам высоко одарен. И в этом сложном и привлекательном облике ты уцелеешь среди всех невзгод, растолстеешь, разбогатеешь настолько, насколько это нужно для приобретения множества голых бумажных женщин и некоторого количества хорошо одетых живых, но и это еще не все, и ты напишешь много прекрасных книг мне и всем на радость.
Я совершенно не сомневаюсь в этом, и все же прошу добрые силы, населяющие небеса и моря, сберечь тебя в целости и сохранности, здоровым и благополучным.
Твоя Белла
Витька, я что-то впала в большое беспокойство о тебе. Помни об этом, когда будешь губить свое здоровье. Едва ли не в первый раз я тебе говорю серьезно. Ты — милый, дорогой и прекрасный, рассчитывай на мою нежность и верность в случае чего. Я и сама ощущаю какой-то туман, от которого все болит.
Мы последнее время виделись мало и неудачно, а последнее время и вовсе не виделись. Но ты у меня все время где-то маячишь в уголке глаза каким-то любимым и жалостным силуэтом.
Ну, веди себя хорошо. Мы всегда с тобой и говорим о тебе мечтательно и высокопарно. И не пей там…
С ханжеским приветом твой верный товарищ Белла.
Витя, приезжай, я тебе дам прочесть рассказ. Будем с тобой не пить, дружить и хвалить друг друга. Целую тебя.
И почему абсолютное большинство женщин под письмами не ставят дат?!
Разгильдяй Грант
На самом краю нашей несчастной земли в столице Колымского края — Магадане — многие годы проживал веселый и озорной армянин. Он был доктор в очень мрачной области медицины — специалист по лучевой болезни и другим радиоактивным мерзостям.
Мы переписывались долгие годы, но, как и с большинством моих корреспондентов, ни разу не виделись.
И в свободное, и в служебное время Грант Халатов писал стихи. Часто хулиганские. Вот, например, некролог, заготовленный Грантом впрок для меня:
Когда построят бушлат сосновый,
Когда приладят костюм тройной,
Я, понапрасну не прекословя,
В бессрочный выгребу выходной.
Засуетятся друзья и жены,
И даже тещи зажгутся вдруг,
А я, спокойный и охлажденный,
Взгляну из гроба на все вокруг.
Увижу так: духовой оркестр
Шопена мучает, в доску пьян,
А самый трезвый, совсем облезлый,
Попасть пытается в барабан.
По-над могилкой, в тени осинки,
Вражина, вредный, как геморрой,
Подобно плакальщице-грузинке,
Готовит вопли, впадая в роль…
И ведь просил же: поменьше пены,
Побольше пенья — и пей до дна.
Так нет, лежи здесь, теряй терпенье
И дожидайся, когда ж хана.
А жизнь такая вокруг живая,
А я, выходит, назад гребу?
Ну нет, подумаю, оживая,
Видал я, братцы, всех вас в гробу.
К чертям собачьим — сосновый ящик,
На барахолку — костюм тройной!
И по могилкам, беспечно спящим,
В одном исподнем рвану домой.
Грант хотел увидеть свои стихи напечатанными, но практически ничего не делал для этого, раздаривая их друзьям.
Гранта, повторюсь, как и многих других своих друзей по переписке, я никогда не видел.
Магадан
Мастер! Вот Вам.
ИСПОВЕДЬ БЫВАЛОГО КОМАНДИРОВОЧНОГОМореный реалист и бывший лирик,
Произношу вердикт, крутой, как дуб:
Чукотка пахнет, миль пардон, сортиром
И тусклым потом в аэропорту.
Эх, мать твою, нелетная погодка —
Хотя бы раз да вовремя взлететь!..
Торчишь на задней парте у Чукотки —
Так на Камчатке школу просидел.
И маешься, ни в чем не виноватый,
И лаешься на потаскуху-жизнь,
И выйдешь в тундру… А вот тут, ребята,
Чукотка пахнет так, что стоит жить.
Между прочим, курорт в поселочке Талая — райское место поблизости от Магадана. Особенно хорошо там в июле — августе. Кстати, он и по профилю Вашей нежной скорби.