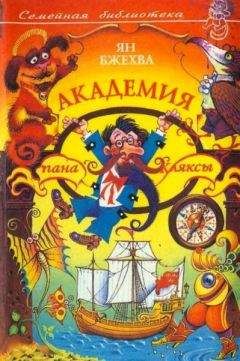Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
«Бедные львы. Сперва их в цирке делают шелковыми. А потом учат для вида огрызаться».
«Философ Федоров?.. Он верил, что можно и должно воскресить всех прошлых покойников. Детей учил. Дал мальчику тему: куда расселить всех оживленных? Из этого мальчика вылупился Циолковский и придумал ракету. И на ней полетел Гагарин».
В. Б. Шкловский — мне.
Живем мы под Ригой в Дубулты. Это на дюне у самого Рижского залива.
Высокий дом — девятый этаж. Из окна виден и залив, и сильно запутавшаяся вокруг отмели река. Говорят, она длинная. Знаю, что она себе надоела и хочет куда-нибудь впасть. А дюны не пускают.
Живем мы с Симой здесь уже три недели. Ровно через неделю вернемся в Москву, а там после короткого мороза слякоть. Ничего нового не писал. Подумал вот что: «Дважды два четыре, — писал Достоевский, — но дважды два пять премилая шутка». Это он написал, рыча. На самом деле в искусстве — дважды два — это что-нибудь.
Это многоцветный ответ — он как перо павлина: пигмент один, но под углом взгляда разный.
Искусство, мой арктический друг, многоцветно, оно основано не на взгляде, а на рассматривании. Вот почему вопросы и ответы этой, как гневно рычал Толстой, «литер-ра-туры» бесконечны…
Сима болеет. Здесь климат разный.
Осенью он похож на ленинградский.
Сима кашляет. Громко и испуганно. У нее температура. Мы болеем. Это разнообразно, длинно и тяжело, как хвост павлина. Мне даже сказано, что я слишком часто думаю о старости. Но юбилеи отливают различными траурами. Мне снова 85. Это возраст замшелово и много раз загарпуненного кита.
Желаю тебе: 1) Верить в себя. 2) Иногда трезвости. 3) Ровной волны. 4) Спокойных разлук и вдохновения. Очень желаю.
Уже семь. В городе очки. Солнце совсем окончательно село. Залив высморкался в тину низких волнишек и будет их сушить на луне.
9 ноября 1978 года.
Озябший мальчик на большом корабле.
Ваша судьба — жить, а не пропадать.
Любить, а не обижать.
Писать, а не обижаться.
Бойтесь черновиков. Пьяных встреч. Пьяные друг друга не видят. Люди в бутылках одиноки и могут сообщить себя во множестве. Вы сделаны из хорошего металла и хорошо выдуты, но попали в блокадную стужь.
Написал как написалось.
У меня в Ленинграде, кроме тебя, людей нет.
Новая Голландия пуста.
Большой город на отмелях пустеет.
Даже тюлени уехали еще при… Они грелись где-то около Ростральных колонн.
Не надо всегда недовольно топорщиться.
Россия не может вечно притворяться сухопутной. Только не надо работать на износ. И не обрастать шкурой из битого стекла. Она не греет… Снимите с лица паутину. Плывем не к смерти. Ее вообще нет. Мне скучно, друг. Я даже разучился писать, но капитан обязан не потонуть и не садиться на мель. Да будет пить.
(Ноябрь 1978 г. — В. К.)
Я сказал, что все книги Виктора Шкловского — одна огромная книга.
Он сказал, что так у всех писателей — и больших и малых.
Я сказал, что его книга должна получить Гран-при среди всех, представленных на конкурс для гадания по строчкам.
— Гадай лучше на кофейной гуще, мой мальчик.
«Шостакович?.. Помню Шостаковича в трудное время, в 1921 году, когда в городе был голод, знал его и позднее. Он был человеком необычайно трудолюбивым, необыкновенно храбрым. Как-то совсем молодым он работал тапером, играл на рояле в одном кинотеатре на Петроградской стороне, и случился пожар, который начался со стороны сцены. А он продолжал играть, когда уже загорелся хвост рояля».
Я сказал, что Виктору Борисовичу нужно написать об эхо — об эхо от предания, сказания, притчи, легенды, сказки.
— Уже написал. «Струна звенит в тумане…» А ты напиши, как в Японии вокруг островов в море выкидывают старые автомобили. Делают искусственные рифы. Они обрастают кораллами. И в кораллах поселяются рыбы. Это тоже об эхо.
— Виктор Борисович, вы любите красивых киноартисток?
— Найди книжонку о Мэри Пикфорд. Я о ней когда-то писал. В одна тысяча двадцать пятом. Называется «Бизоньи консервы»…
Самое удивительное, эта книжонка Виктора Борисовича сама попала мне в руки…
«Берегитесь трамвая — предупреждают фонари на московских бульварах.
Берегитесь кинематографа — хотим предупредить мы в начале книжки о самой очаровательной киноартистке. Женщины переполняют лестницы кинофабрик, льстят помрежам, льнут к киноленте, как мухи к липкой бумаге.
Большинство этих женщин — люди без судьбы.
Это — так называемая домашняя хозяйка. На киноленте, кажется им, они найдут свою судьбу. Женщины мечтают в кино о роли красавицы, о крупных планах и хорошо освещенном лице.
Кино им дает — очередь перед дверью режиссера и разочарования…
Но есть одна очаровательная домашняя хозяйка.
Ее любит весь мир. Имя ее МЭРИ ПИКФОРД.
Секрет очарования Мэри в том, что она не ушла в кино от судьбы, а принесла ее на ленту.
Чаплин стал Чаплином тогда, когда выбрал в основу своего плана образ клерка.
Гарольд Ллойд — тогда, когда стал человеком в очках.
Мэри Пикфорд использовала для ленты отношение Америки к женщине и идеальный тип американской женщины…
Американец требует Мэри в ролях девочки и рассказы о миллионных гонорарах.
Он хвастает ими, как хозяин медалью своей собаки».
«Сегодня звонила Лиля (Брик. — В. К.), спутал ее голос с Эльзой. Очень ее голос… Как давно. Лиля сказала, что во всех сценариях у меня любовь гимназическая… Столько лет. И я назвал Лилю Эльзой».
«Маяковский?.. Вел счет деньгам на бумаге, но относился к ним легко. Лиля стоила дорого. Осип — ничего не стоил. Маяковский покупал ей жемчуг. Она жемчуг любила».
В «Архиве Горького» есть запись о Маяковском, где упоминается Шкловский:
«Я не поражен смертью В. В. Маяковского. С первой встречи он вызвал у меня совершенно определенное впечатление человека надломленного, и тогда же я сказал кому-то, что этот парень скоро доломает себя, — он сам или кто-нибудь другой; вероятно, женщина. Видел я его у художницы Любавиной весной 14-го года. Там читали стихи Клюев, Есенин, Шкловский, должен был читать и Владимир Владимирович. Длинный, неуклюжий, с лицом, обтянутым серой кожей, нахмурясь, гримасничая, обнажая больные зубы, он глухо, торопливо и невнятно произнес несколько строк, махнул рукой, круто повернулся, исчез в соседней комнате, притворив за собой дверь. Сказали, что он сконфузился. Хозяйка квартиры и Брик долго и безуспешно уговаривали его — читать. По рассказам, Маяковский изображался человеком, который любит конфузить других, и было приятно, что рассказы оказались неверными.
Летом он приехал ко мне в Мустамяки. Очень скромный милый человек с пристрастием к словесным фокусам. Через десять минут он уже декламировал:
Седеет к октябрю сова,
Седеют когти Брюсова».
Вторая половина апреля — май 1930 г.
Напомнил Виктору Борисовичу, что о его работе сравнительно недавно сказал Г. М. Козинцев. Размышляя об импровизации в искусстве, режиссер подчеркивает, что это — «введение к разговору о Шкловском. Наука понималась (и наука об искусстве тоже) как многолетний, глубоко продуманный, стройно выстроенный труд. Шкловский же был импровизатором. Он опровергал основы основ: фундаментальность, выстроенность, сосредоточенность. Афоризм был не его литературным стилем и даже не свойством личности, а способом работы… Его прием: выхватывать отдельные положения, детали и не выстраивать их в систему, дополнив и развив другими подобными же, а только — через пространство — чем-то соединив их на ходу, казалось бы, случайно, неорганично.
Такая связь оказалась крепче, чем фундаментальные научные постройки… Виктор Борисович попросту опускал все то, что знали и без него. Он торопился. Тезисы к выступлениям он сделал самими выступлениями. Имеющие уши да услышат! Зато все, что полагалось умалчивать, он говорил».
«Трудно писать. Не знаем мы дороги, по которой надо было идти… Трудно писать письма о горе.
Был у меня старший брат Евгений. Большевик еще до войны. Он считался хорошим пианистом и превосходным хирургом. Служил в войну 14 года в артиллерии врачом. Встретился я с ним мельком, вольноопределяющимся. Когда взяли наши Перемышль, только Евгений догадался снять план города. Пригодился, когда мы Перемышль потеряли. Убили его на Украине зеленые. Он вез поезд (надо было сказать „вел“) с ранеными, затем отстреливался. Умер в Харькове. Другой брат был у меня филолог. Христианин-ортодокс, крестился на церкви. Вечером молился, встав на колени… Еще был брат — очень красивый и неудачник. На войне (14 года и дальше) стал офицером… Жена его была взорвана, когда немцы велели очищать поля от мин… Сестра моя умерла давно. Две дочки ее умерли в Ленинграде в разное время. Я жив по ошибке. Умерли мои друзья, с которыми я работал. Умерли писатели, которых я любил… Мне 85 лет. Вероятно, я успею написать еще одну книгу. Какая она будет?