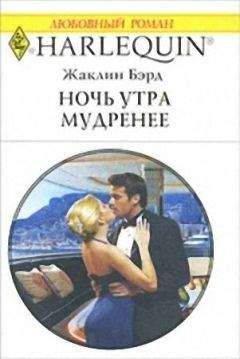Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
Охрана плотная! И все же он проникнет через этот кордон, найдет таинственное изваяние, хотя в данный момент его мысли снова вернулись в мир случайностей. Их так много, что не считаться с ними — глупо. В своем труде он учел роль интуиции, а вот значение случайности до конца не продумал. А ведь интуиция и случайность, — рассуждал он, не замечая ни жары, ни прохожих, — железно взаимосвязаны. Многие великие открытия обязаны случаю. И чаще всего его подмечает не разум, а интуиция. Какой же вывод? Заранее настраивай мозг на возможную случайность, ибо она — позывная внутренней необходимости. А еще лучше — продолжай ежедневный поиск. Неудачи рано или поздно переходят в удачу: но не отступай, не бойся отвлеченного анализа. Вот вспомним Белинского. Вооружившись методом Гегеля, он смело вторгался в мир своевольных муз. Казалось: философская критика отпугнет писателей, а Достоевский, Тургенев, Толстой, наоборот, вдохновлялись статьями неистового Виссариона.
Калугин сравнительно быстро обратил внимание на прикрытую статую сибиряка, но не так-то просто подобрать к фигуре тунгуса нужный ключ проникновения. И снова гость-случай!
Исследователь подвел интуристов к памятнику в тот миг, когда луч солнца проник меж статуями Ивана III и Петра I и высветил руку загадочной фигуры.
— Смотрите! — указал краевед на Сибиряка. — Тунгус ладонями поддерживает русскую державу! Единственный на пьедестале обращен лицом к символу великого государства! Кто он? Князь? Царь? Нет! Представитель малых народностей, воспетый Пушкиным. Все наши народы и народности должны взять в свои руки державу! Любое царствование кончается царствованием народа!
И все же раскрытие тайны далось не так просто: надо было не раз оглядеть памятник, надо было осознать закон истории о неизбежной победе народа, надо было увидеть в творении Микешина зеркало русской революции и, наконец, надо было во всем сиянии представить Отчизну зарубежным гостям.
А гости онемели от неожиданности: им показалось, что памятник России воздвигнут не в 1862 году, а после Октября. Довольный за своего друга, Курт Шарф от имени сводной группы иностранцев благодарил историка за увлекательную экскурсию и преподнес ему красочный рекламный альбом «Мерседес».
Калугин тоже благодарен гегельянцу: философские наскоки доктора еще более укрепили веру автора в свою «Логику открытия»; теперь он не сомневался, что его ученик самостоятельно откроет тайну Тысячелетия.
А пока что Глеб помогает ему, председателю детской комиссии. Вратарь заинтересовал Филю и Циркача газетными заметками про тайну дома № 6. Под интригующим заглавием местная газета «Звезда» поместила четыре корреспонденции о старом подвале, откуда-де берет начало подземный ход.
Калугин вместе с немцами проехал в Антоново. Там наметил с Глебом ближайший план действия и прошел с ним, счастливчиком, в рощу белых берез. Там они нечаянно встретили Берегиню в компании французов.
Николай Николаевич попросил актрису дать концерт в антоновском Доме юношества. Она охотно согласилась, хотя предварительно не договорилась со своими баянистами.
Домой Калугин возвращался, насвистывая песню гражданской войны. На пустынной набережной, возле Белой башни, его поджидал Воркун. Глаза чекиста были встревожены радостью. Дымя папиросой, он пробасил:
— Дружище, тайное становится явным.
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМНа сей раз Калугин знал, о чем пойдет речь. Накануне между ними состоялся разговор без свидетелей. Иван, получив приглашение на заседание комиссии, решающей судьбу памятника России, заявил приятелю: «Уверен, ты исполосуешь красную рубаху!» Николай Николаевич впервые дал понять другу, что Пучежский заручился поддержкой не только Клявс-Клявина, но и самого Зиновьева. А тот, председатель Ленсовета, пользуясь властью, заслал в Новгород своих подпевал, обеспечил большинство голосов. «Так что схватка за памятник может закончиться печально: монумент сломают, и нас — в разные стороны подальше от Волхова!» Наконец чекист сообразил, что к чему, и крепко выругался: «Глава оппозиции — штрейкбрехер революции?!» — «Да, голубчик, то была не случайность!»
Калугин переждал, когда мимо проедет телега с бочкой, и пожал приятельскую руку:
— Какую тайну раскрыл?
— Не раскрыл! Они сами себя разоблачили…
— Кто они?
— Только бегло, коротко! — Иван отбросил окурок в сторону земляного вала: — Меня ждет Тамара. Вот-вот…
— Не волнуйся! Вторые роды легче. Говори!
— Вчера вечером в клубе «Молодая гвардия» Дима Иванов загнул речь: Зиновьева представил единственным вождем партии. Его освистали. Скандал! Доложили Клявс-Клявину. Тот ночью позвонил на квартиру шефа. У того и голос осел. С трудом опомнился. Затребовал письменное «объяснение». Сказал: «Поручите расследовать объективному губкомовцу…»
— Кому же доверили?
— Клявс-Клявин порекомендовал своего заместителя Семенова…
— Позволь! Он же не в курсе дела: два месяца лечился…
— Вот-вот! Для него, непосвященного, выступление Димы — это ребячество, ораторский запал.
— Я открою глаза Семенову!
— Поздно, дружище! «Объяснение» Семенова уже уехало с нарочным в Питер, — чекист решительно расправил вислые усы: — Надо махнуть в ЦК!
— Друг мой, с пустым портфелем в Москву не ездят: заиметь хотя бы один письменный документ, хотя бы коллективное письмо ленинцев.
— Дело! Я первый подпишу.
— Еще, кто вчера был в клубе из ваших?
— Понял. Алексей Смыслов достанет выписку из протокола и приложит письменное показание — что и как, — Иван взглянул на часы. — Где ты был? Я искал тебя!
— Товарищ начальник, — улыбнулся историк, — я не мог не попрощаться с доктором философии…
— Смотри! Пучежский припишет тебе дружбу с идеалистом. Он уже звонил мне: «Коммунист Калугин принимал у себя дома буржуазного ученого». И наверняка, уже донес Клявс-Клявину. А тот — шефу в Питер. И пошла писать губерния!
— А ты на что?!
— Факт! Постою, — чекист проводил взглядом священника в черном облачении, с белой красивой бородой и перешел на басок: — Ты, дружище, помог нам и государству: наш враг, друг Вейца, покидает Россию нашим другом, полпредом. Сам Дзержинский похвалит тебя: нечисть можно выжигать кислотой, а можно и добротой. Будь!..
Мать, наверное, не ужинала, ждет сына. А он весь вечер глаз не спускал с «Вечернего соловья». Как ни юлил старый холостяк, как ни водил себя за нос, но самообман не его стихия:
— Мама, — признался он, садясь за стол, — я опять влюбился…
Глаза Анны Васильевны откликнулись светлой надеждой, а морщины губ — тревожным сомнением:
— Неужели в красавицу?
— Как же иначе, голубушка.
— Я не уродилась ни лицом, ни фигурой, а твой отец души во мне не чаял.
— А сама? Мужа-то какого выбрала, матушка?
— Какого?! — Старушка преобразилась, помолодела и гордо вскинула голову: — Красавца по всем статьям! Дочь помещика, дворянка, увивалась за ним как собачонка!
— Ага! — обрадовался сын, указывая вилкой на себя. — Я-то, честно говоря, весь в тебя!
Мать беспомощно опустила руки на передник, глазами показывая на дверь кабинета:
— Был звонок. Берегиня Яснопольская пригласила нас на свой концерт. Голос певучий, приятный, — она придвинула любимцу стакан сливок. — Я пойду. А ты?
— Не знаю. Как время, — ответил он притворно равнодушным голосом, горя любопытством. Он чувствовал, что мать недоговаривает: — А почему, собственно, актриса пригласила нас, незнакомых ей людей?
— Она была здесь. Мы чаевничали, беседовали. Она ученица Передольского. Знает тебя как придиру…
— Позволь! — перебил он старушку. — Зачем же приходила?
— Просила не говорить о ее визите. Но ты же знаешь мою слабость: какая мать скроет от сына такое! — Ее глаза полны счастливой прозорливости. — Меня не проведешь, она ворчала потому, что увлеклась тобой.
— Тебе почудилось, голубушка!
— Ой нет! Она восторгалась нашими собаками, твоей библиотекой, моим садом.
— Может, ей в гостинице тошно, ищет комнату?
— Она ищет себе учителя: завидует Глебу — готова следовать за тобой хоть на край света. — Мать вскинула ладони к глазам: — Синеглазка! Светлокудра! Не в эту ли красавицу ты влюбился?
— Мама! — смутился он. — Побойся бога! Она так молода!
— А знаешь, что Антонине Ивановне и восемнадцати не было, когда она доверилась Владимиру Васильевичу. И до сих пор верна ему!
— Умоляю! Замолчи! Профессор Передольский — кумир студенток! А я трижды обжегся! Хватит! — отнекивался старый холостяк наперекор своему блаженному состоянию…
Сын не помнит, ужинал он или не ужинал. Закрывшись в кабинете, он сел за письменный стол, склонил голову над малиновой тетрадью и бессмысленно уставился в одну точку, которая раздвоилась на два чудесных синих глаза.