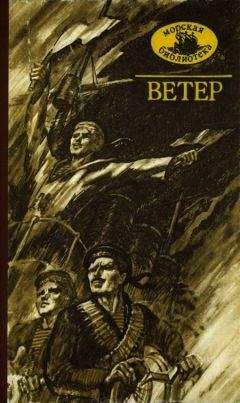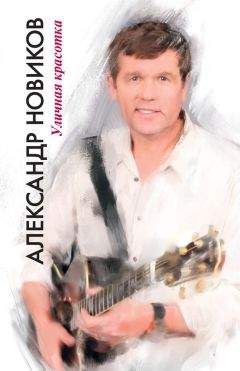Александр Серафимович - Том 2. Произведения 1902–1906
По небольшой из ходивших под ногами досок площадке края парусиновой крыши балагана похаживал в диковинном, вытертом и отрепанном костюме, обшитом золотыми позументами, ражий детина с откормленным, оплывшим от пьянства и разврата лицом. Он сверху посматривал на колеблющуюся внизу, шевелящуюся, лущащую семечки толпу, и его ражее, оплывшее лицо и вся дюжая быкообразная фигура «геркулеса», роль которого он исполнял в балагане, говорили о сознании своего особенного положения и превосходства над этими толпившимися внизу людьми с испитыми трудовыми лицами.
– Пожалте, господа, сейчас представление начнется… не теряйте дорогого времени…
На площадку выбежал мальчуган лет девяти – десяти, с лицом, вымазанным мелом, в шутовском балахоне из разноцветных лоскутьев, в дурацкой шапке с бубенчиками. Он три раза обежал с ужимками вокруг «геркулеса» и, присев на корточки, заговорил, коверкая язык:
– Каспадин, обучите фокусам.
– Давай. Каким же тебе фокусам?
– Разным: как сладкие пироги есть, водочкой запивать, с бабочкой баловаться…
– Го-го-го! – неслось кругом.
– Ну, ложись, – говорил быкообразный «геркулес», похаживая все с тем же сознанием своего превосходства, своего особенного положения, силы и роскошного наряда.
Мальчуган, строя гримасы, быстро и упруго опрокинулся на спину, высоко поднял ноги и, болтая ими, закричал петухом. Детина дернул его за ноги, и мальчуган, перевернувшись два раза в воздухе, упруго, как мяч, упал на ноги, и доски под ним вскинулись и заговорили, взбивая пыль.
– А когда же, каспадин, пироги сладкие?
– Пироги? А вот зараз.
И детина сзади с размаху ударил его носком обутой в туфлю ноги. Мальчуган отлетел шага на три и провалился в вырезанную в доске дыру.
– Го-го-го… га-га-га… – гудела толпа.
Все поворачивались друг к другу с смеющимися лицами, лузгая и выплевывая шелуху семян.
– Здорово!
– Вот те сладкий пирог…
– Обучи, дескать, фокусу… а он его под это самое место… го-го-го… ха-ха-ха!..
– Под самое, значит, место… хо-хо-хо!..
И над толпой несся густой добродушный смех людей, не покладая рук работавших целый год и вот пришедших сюда отдохнуть, посмеяться, забыться.
Шутовская рожа мальчугана на минуту снова показалась из прореза досок, сделала гримасу и исчезла.
– Хо-хо-хо!.. опять за пирогом…
– Пожалте, пожалте, господа…
А над всем тепло и ярко светило веселое южное солнце.
Толпа по-прежнему часами стояла перед балаганом, одни входили, другие выходили, смеялись, говорили, перебрасывались остротами, бранью.
Чьи-то истерические вопли и крики понеслись из-за колыхавшихся холщовых, со множеством дырок, в которые смотрели даровые зрители, стен балагана. Рыдала женщина. Внутри чувствовалась возня, говор, отдельные голоса, окрики.
– Зови околодошного…
– Признала… Слышь ты…
– По документам…
– Тяни его, дьявола…
И эта возня, говор, крики и волнение людей, которые были за тонкими, колеблющимися стенками, передавались толпе.
– Али упал хто?
– Чего упал! Руки, ноги поломало…
– Ноги!.. Голову напрочь отнесло.
– Никак, бьют?
– Бей тревогу… кричи полицию!..
Перед взволнованной, напиравшей на балаган толпой распахнулись двери, и оттуда вывалила толпа зрителей. Выводили под руку рвавшуюся и кричавшую женщину. Она сквозь рыдания выкрикивала:
– Сынок… сыночек… Митюша!
– Чего такое?
– Сына, вишь, признала.
– Где?
– Во, вишь – паренек в одеянии.
– Это, который емнастику делает?
– Во, во, он самый… украли… сызмала… сколько годов ищет… нашла…
Тут же в толпе гимнастов, обтянутых в трико, выходил мальчуган в шутовском костюме, и странно обвисал на его худенькой тщедушной фигуре пестрый балахон, и белели на втянутых щеках густо размазанные белила. Мальчик равнодушно и устало стоял среди обступивших его, не отвечая на сыпавшиеся на него вопросы.
– Матка твоя, што ли?
– Тебя, стало быть, хозяин уворовал?
– Давно?
– Сколько годов у него?
Мальчик так же безучастно молчал. Женщина рвалась к нему. Пришел околоточный,
– Это ваш мальчик?
– Сы… сы-ынок… укра-ли…
– Вы откуда сами?
– Екатеринославской губернии…
– Это твоя мать?
Мальчик вздохнул и, отвернувшись, стал неопределенно смотреть в толпу.
– Ты сам откуда?
– Казанской губернии…
– Родители твои где?
– В деревне… там…
– Это что же, твоя мать?
Мальчик, не отвечая на вопрос, вдруг бросился к нему и часто-часто заговорил с искаженным сдерживаемыми рыданиями лицом, глотая смешно разрисовавшие ему белилами лицо слезы:
– Возьмите… возьмите меня отсюда… господин… барин… ваше благородие… возьмите меня отсюда… я… ваше благородие…
Он задыхался, цеплялся судорожно дрожавшими руками за мундир околоточного, не давая нечеловеческим усилием воли прорваться душившим его рыданиям.
– Возьмите…
Толпа, притихшая, сдвинулась тесно, оставив маленькое пространство в середине, сдержанно подавая реплики:
– Опозналась… чужой…
– Несладко тоже, значит, и им… даром что в одеянии.
– Ишь, сердяга, надрывается…
– Позвольте, господа, позвольте… расступитесь…
Расталкивая толпу, прошел господин с помятым изношенным лицом, в поношенном фраке, грязной крахмальной рубахе с хлыстом.
– Извольте, ваше благородие… вот документы… у меня все документы… У меня чисто, не как-нибудь… я не то, что иные прочие…
Околоточный взял истрепанную бумагу и углубился в чтение. Мальчик, дрожа, как лист, стоял с разрисованным лицом, беспомощно озираясь, и торопливо вытирал слезы.
– Нда-а!.. Казанской губернии… в обучение… на пять… лет… гимнастическому рукомеслу… Да, матушка, опознались.
– Пшшел!.. – зашипел субъект во фраке, и лицо его мгновенно преобразилось и сделалось необыкновенно жестоким.
Мальчик мгновенно пропал в балагане…
– Пожалте, пожалте, господа… икзатическая наездница… об трех ног лошадь… замечательные фокусы…
– Каспадин, науште фокусам.
– Каким?
– Разным; водочку пить, сладкие пироги есть, к бабочкам…
– Го-го-го!..
– Ложись.
– Хо-хо-хо… здорово… под это самое место…
Веселое солнце светило.
Литературные картежники*
Наш сугубо карточный и якобы литературно-художественный кружок, набивший оскомину своей страстью нежной к зеленому полю и неудержимым отвращением к искусству и литературе, оказывается не случайным явлением, это – тип, это – определенная общественная форма, выплавленная русской жизнью.
Уважаемый председатель кружка употребил все усилия, чтобы создать такую комиссию по организации литературных вторников, которая бы собственноручно убила их. И надо отдать ему справедливость, – как человек крупного ума, он преуспел совершенно: вторники представляли всемосковское торжище и посмешище.
Быть может, они и никому не нужны, эти вторники? Так нет. Год тому назад, когда к ним относились серьезно, когда правление с председателем во главе намеренно не придавало им вида торжища, они пользовались популярностью, публика охотно шла туда, чтобы обменяться мыслями, чтобы выслушать доклад.
В чем же дело? И какая цель превращения вторников в зрелище? Ведь и председатель и правление отлично понимают и оценивают дело рук своих.
О, понимают, превосходно оценивают?.. Так в чем же дело?
Точь-в-точь такой же случай произошел в Одессе. Там тоже имеется литературно-артистическое общество.
Точно так же бьются в карты даже до членовредительства и покушений на взаимное истребление наиболее умным способом на земле, – именно на дуэли; имеется и литературная комиссия, организующая литературные вечера, – словом, все, как в Москве, но и дальше все, как в Москве; вся история и деятельность общества таковы же, как и в Москве.
Устраивались литературные собрания, читались и разбирались доклады; происходил живой обмен мыслей и мнений, публика шла сюда очень охотно и относилась к делу очень серьезно, – словом, успех литературных собраний полный.
И вдруг хлоп!.. Правление разогнало комиссию – грубо, бесцеремонно, возмутительно. Никаких литературных собраний! В карты можно, а собраний никаких. В этом пункте различия: в Москве вторники были преобразованы в торжища утонченно-вежливо, предупредительно, джентльменски, с шапо-кляк под мышкой, с обворожительной улыбкой на устах.
Но почему это? зачем? какой смысл?
Как бы правления обоих кружков ни были страстно привязаны к картам, нельзя объяснить дело исключительно этой привязанностью. Есть еще что-то.