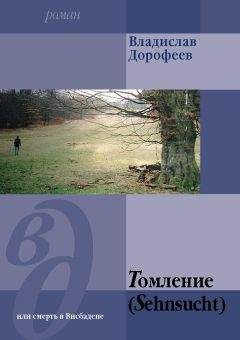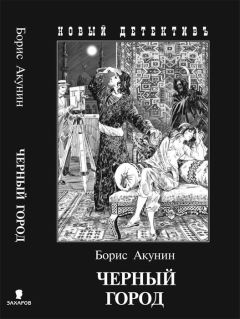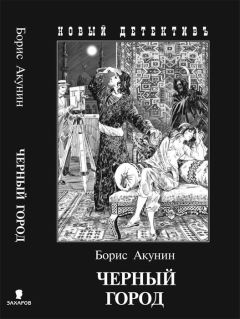Борис Полевой - Глубокий тыл
— Ступай-ка и ты, Северьяныч! Политико-моральное состояние мое правильное, работу среди меня вести не надо, а опыт этот никогда никому не пригодится.
Северьянов молча тряхнул Арсению руку и тоже отошел. Вернувшись к печи, Куров набросил на себя брезент и скомандовал Юрке:
— Воду!
Струя со стремительным шипением вырвалась из брандспойта, забарабанила по асбестовому костюму, по брезенту, который сразу набряк и стал твердым. Арсений надвинул на лицо шлем, прикрылся мокрым полотнищем.
— Свети!
Кочетков, тоже опустив шлем, поднял лампочку-времянку, прикрепленную к железному пруту, и, отворачиваясь от жара, сунул в проем. Немцу Арсений ничего не сказал, но тот сам подошел к печи с ящиком огнеупорной — глины и инструментами.
И вот массивная фигура мастера скрылась. Всем показалось, что часы остановились, только кровь, стуча в висках, отсчитывала секунды. Против воли у всех возникали опасения: может быть, Курову дурно? Может быть, он уже упал? Лишь легкое пошевеливание тонкого стального троса, который был привязан к его поясу, говорило: нет, человек жив и работает. Если бы кто-нибудь в это мгновение посмотрел на немца, он поразился бы тому, как сразу побледнело и еще больше осунулось его худое лицо, как вздулись на висках синие жилы и ужас отразился в выпуклых глазах. Немец как бы окаменел.
Вот веревка зашевелилась, вот показались грубые башмаки с подметками, на которых сверкали стоптанные гвозди, вот он и весь Куров в ворохе брезента, от которого клубами валит пар. Когда его приняли на руки, брезент был так горяч, что люди его чуть не уронили. Мастер стоял у печи, тяжело дыша и покачиваясь.
— Воду! — хрипло вымолвил он, и, когда шипящая струя забарабанила по брезенту, раскрытый рот стал жадно ловить брызги.
— А ну, в лицо! — скомандовал он и, блаженно щурясь, подставил себя холодной струе. — Баня… Еще какая баня-то! Парилка, самый верхний полок!
Отдышавшись, оставляя за собой след стекающей воды, Куров двинулся к печи и вновь исчез. Теперь, когда его помощники поверили, что в невероятных этих условиях работать все-таки можно, каждый из них весь превратился во внимание. По одному движению руки Арсения они догадывались, что ему нужно подать, и подавали со скоростью в обычное время просто невероятной. Куров слазил не однажды. С каждым разом он заметнно терял силы, работал меньше времени, отдыхал продолжительнее. Вдали, в конце цеха, рядом с Северьяновым уже белел халат врача. Но запрет соблюдался, и никто не подходил к месту работы.
В последний раз Куров спускался особенно долго. Ему уже помогали. Осторожно поставленный на пол, он не устоял на ногах, покачнулся и сел. Он ничего уже не говорил, только рукой показал: дескать, обливайте. Долго сидел под струей и вдруг прилег. Сейчас же возле него оказался врач. Сняли шлем, расстегнули ворот, стали щупать пульс. Северьянов принес кружку подсоленной газированной воды и, приподняв голову Курова, поднес ее к его обожженным, потрескавшимся губам. Куров приник к ней и не оторвался, пока не допил до последней капли. Потом он попытался встать и действительно приподнялся, опираясь о стену, но продержался недолго, снова сел и, поводя белками глаз, резко выделявшимися на закопченном лице, дал знак, чтобы к нему нагнулись.
— Один раз… еще один раз, — прохрипел он. — Все… готово… Разок слазить… один разок. — Для убедительности он поднял указательный палец, а потом жалкая улыбка покривила крупные его губы, — Не могу… насос… сдает насос.
Он показал рукой на грудь. Рядом послышалось шипение воды. Арсений позел глазами в ту сторону. Долговязый немец стоял у печи и, согнув резиновый шланг, обливал себя водой. Все разом поняли, к чему он готовится. Ерофей Кочетков обидчиво рванулся к немцу, но Куров остановил его:
— Пусть… — Красные, набрякшие глаза его с удивлением и в то же время с удовлетворением следили за Эббертом. — Помогите, ребята… Гуге…
И вот уже длинная, закутанная в брезент фигура скрылась из глаз. Теперь все старались помочь немцу, угадывая его указания… Эбберту пришлось слазить не один, а три раза, и, когда он в последний раз спускался вниз, жестом показывая, что все внутренние работы закончены, люди жали ему руки, хлопали по плечу, поздравляли, и, разумеется, никому и в голову не пришло вспомнить, что печь выведена из строя налетом немецкой авиации.
Наружные работы были уже делом обычным и не очень сложным. Поручив завершить их Ерофею Кочеткову, Куров позволил отвезти себя домой. Его отправили на директорской машине в сопровождении сестры из медпункта. Сам он считал это излишним: сердце успокоилось, только кружилась голова да странная слабость, размягчая мускулы, делала их будто тряпичными. Болели руки: ожоги так и пульсировали под бинтами. Зато мысль была ясна, и, раздумывая о только что пережитом, мастер Куров сам старался понять, почему его так радует, что не старый приятель Ерофей Кочетков и не любимец цеха, ловкий и смышленый Юрка, а именно этот долговязый немец, из-за которого он когда-то столько пережил, завершил дело. Что его, долговязого черта, толкнуло на это?
10
Еще недавно Ксения Степановна жила от письма к письму. Почтальон был самым желанным гостем в ее квартире. Но вот теперь лежит перед нею на столе большой конверт, а она, придя с работы, стоит и не решается его вскрыть. Обычный конверт. Адрес надписан незнакомым почерком. Иногда именно в таких вот конвертах пересылают ей из Президиума Верховного Совета депутатскую почту. Но те синие, а этот белый. Неужели от военного комиссара? Неужели похоронная? Неужели Филиппа Шаповалова, Фили, нет в живых?
Ксения Степановна протягивает к конверту дрожащую руку и медленно отводит ее. Говорят, теперь похоронных не присылают, вызывают к военкому, и тот устно передает страшное известие. Говорят… А может быть, в конверте и лежит роковая повестка военного комиссара? Раненые, с которыми подружилась. Ксения Степановна, в конце концов убедили ее: раз целые дивизии выходят из окружения, почему не выйти одному, но самому нужному, самому дорогому для нее солдату? Она даже как-то приспособилась к ощущению постоянного ожидания. И вот письмо. Что в нем?
Наконец, измучившись, она хватает конверт, отрывает угол, рывком вспарывает бумагу, и в руках у нее другой конверт, маленький, серый, истертый. Адрес на нем надписан почерком мужа. В госпитале она твердо переносит вид самых страшных, пульсирующих, кровоточащих ран. Но тут она бессильно опускается на стул. Радость оглушила ее. Руки дрожат и никак не могут надорвать этот второй конверт. Когда же наконец письмо извлечено и прочитана первая строчка, Ксения Степановна плачет навзрыд, зажимая рот черной косынкой, пахнущей машинным маслом, человеческим потом, трудом.
Выплакав эти внезапно нагрянувшие, успокаивающие слезы, она вытирает лицо тем же платком и читает: «Дорогая моя жена Ксения Степановна! Пишет тебе твой муж, боец доблестной Красной Армии, а ныне советский партизан Филипп Шаповалов. Кланяюсь я тебе, моя жена, и дочери нашей, Юноне Филипповне, и докладываю вам всем, что я жив и здоров, чувствую себя подходяще и воюю на славу, потому как и тут, в тылу врага, советские люди, выполняя приказ товарища Сталина, тоже громят ненавистных оккупантов и создают им невыносимые условия».
Окончив страницу, Ксения Степановна снова перечитывает, стараясь угадать, не кроется ли за этими ясными строчками что-нибудь еще, о чем Филипп не написал, а только думал… Задумывается и сама: партизан, вот новость! Она пытается представить мужа бородатым, в треухе, с красной ленточкой по козырьку, с гранатами за поясом, с автоматом в руке, но простенькое лицо Филиппа никак не вписывается в этот традиционный партизанский облик, глядящий обычно с плакатов. Вздохнув, Ксения Степановна читает дальше и узнает подробности, частично ей уже известные. Стремительная немецкая контратака, пулеметчики прикрывают отход. Расстреляв последнюю ленту и поняв, что отрезаны от своих, они, пользуясь артиллерийским налетом, уползают в лес. Дальше все просто. Долго бродят два солдата по лесам и болотам, ища возможности перейти фронт. Случайно натыкаются на партизанский отряд. В отряде для Филиппа Шаповалова — мастера на все руки — находится важное дело. Он организует оружейную мастерскую, чинит трофейное оружие. «В общем, хлеб не даром жуем, Гитлеру спать не даем».
И где-то в конце письма, уже после многочисленных поклонов родне и знакомым, Ксения Степановна находит самую большую новость: оказывается, летчик, который поддерживает связь с отрядом и отвезет на «Большую Землю» это письмо, рассказывал, что есть приказ партизанам из окруженцев организованно пробиваться через фронт для продолжения службы в своих частях и что, может быть, скоро и Филипп Шаповалов выйдет из тыла, и тогда ему положен будет отпуск для свидания с семьей…