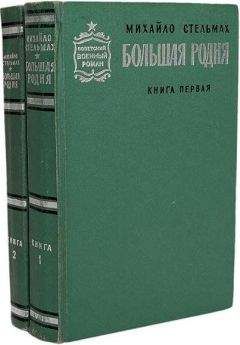Михаил Стельмах - Четыре брода
Когда сытость смягчила жестокосердие начальника вспомогательной полиции Квасюка, он под грохот печной заслонки, валька и скалки станцевал трепака, а затем, поблескивая двумя обоймами металлических зубов, начал просить Безбородько, чтобы тот спел лирницкую, как когда-то, при большевиках, распевал на ярмарках и базарах. Проголодавшийся Безбородько, стараясь возле телятины, отмахнулся от приставалы, даже блеснул ученостью:
— Мой желудок, наверное, желудок орла, ибо он больше всего любит мясо ягненка. Так говорил Заратустра.
— Так дайте работу не только желудку, но и голосу, — домогался своего начальник полиции.
Тогда Безбородько расстегнул суконную, с кожаной мережкой куртку, чтобы все видели орден «За храбрость и заслуги», внимательно обвел желтыми печатями глаз сборище, взмахнул руками так, словно он держит лиру, сгорбился и низким басом умело повел старинное слово, которое сразу же запало печалью в пропащие души:
Зiшла зоря посеред моря —
Ой то не зоря, лишь свята Варвара.
До неї сам круль залицяв,
Святiй Bapвapi подарунок обiцяв.
I казав вiн слугам злота накопати,
Святiй Bapвapi подарунок пiслати.
Свята Варвара подарунка не брала,
Бо йому жоною бути не гадала.
А круль сказав слугам срiбла накопати
Святiй Bapвapi подарунок пiслати.
Свята Варвара срiбла-золота не брала,
Бо йому жоною бути не гадала.
А круль сказав слугам скла надробити
I святiй Bapвapi по тiм склi ходити.
— Господи милостивий, стань менi до поруки,
Не дай терпiти невиннiї муки.
Зiслав господь янгола з неба:
— Уступай, Варваро, на те скло, бо треба.
Свята Варвара на скло наступила,
А жодної краплi кровi не вронила…
И вдруг мертвую тишину, которая воцарилась в доме, разорвало надрывное всхлипывание крайсагронома Рогини.
— Очнитесь, пан. Отчего вы так расстроились? — растерянно спросил его Магазанник.
— Варвары мы, богом и людьми проклятые варвары! — вытирал рукой потускневшие глаза Рогиня. — Измученная Варвара ни одной капли крови не уронила. Мы же эту кровь ежедневно квартами цедим, а мозги заливаем вонючим самогоном. Так кто мы после этого?
— Скажи, скажи, злоязычник, кто мы такие?! — окрысился на него начальник вспомогательной полиции с приплюснутыми ушами и с плоским лбом, на котором сразу же от бровей ботвой топорщились волосы.
— Не клади руку на смерть, она сама положит на тебя свою, — не испугался Рогиня, когда полицай рванулся пятерней к кобуре. — А кто мы, скажу. Начну с тебя. Должен был ты, страшилище, родиться человеком, а вылупился чертом.
— Замолчи, отступник, а то навеки заснешь! А перед этим и сукровицей зарыдаешь! — Квасюковой крови стало тесно в жилах, и они, набухая, начали пауками пробиваться на лице.
— А я не хочу молчать, — очнулся, словно из оцепенения вышел, Рогиня. — Потому что страшны в мире тревоги и страшны печали.
— Вот сейчас ты и увидишь эти печали, — вытаращив свои косые студенистые глазки, Квасюк схватил агронома за шиворот и потащил из хаты. — Вот сейчас и узнаем, чей черт старше.
Рогиня, упираясь, не молчал, а еще и угрожал:
— Ты, ублюдок, окаянный, думаешь заслужить серебряный крест второго класса? Заработаешь, только дубовый.
— Я тебе дам и дубовый, и осиновый! До седьмого колена вырежу твое отродье… — Осатаневший Квасюк вырвал из кобуры пистолет с инкрустированной рукояткой.
Но за Рогиню вступился Безбородько, не столько из любви к крайсагроному, сколько из ненависти к начальнику полиции, что перехватил у него место.
Пирушка была испорчена. Гости перессорились, переругались и вскоре уехали в город, оставив в хате чад табака, пота и поганых слов.
Вот и есть у тебя, хозяин, долгожданный хуторок. Не пойти ли хоть сейчас туда, а то завтра можешь опоздать. И, наверное, пошел бы, если бы не побоялся темноты и глаз Човняра, что всюду преследовали его. Не зная, куда девать себя, Магазанник послонялся по подворью, заглянул в просторную клуню, где на току, словно деды, сивели тяжелые снопы жита, которые завтра лягут под цепы; пальцами прикоснулся к колоскам, нашел между ними крохотную головку дикого мака, которая уже рассеяла свои семена и вспомнил давний сочельник и опечаленного отца и услыхал его необычные слова: не утерял ли сын любви к житу, к красному маку в нем? И вдруг страшные цепы Неотвратимости забесновались над Магазанником. Он вцепился обеими руками в один, в другой, в третий сноп, словно они могли вернуть ему то, что было навеки утрачено, а потом выскочил из клуни и, забыв запереть жилище, отправился к отцу Борису.
Неласковым взглядом встретил его старый батюшка, который, возвратившись с церковной службы, уткнулся не в Священное писание, а в какую-то житейскую книгу. Вдыхая застоявшийся дух ладана, Магазанник растерянно остановился в дверях.
— Я к вам, отче.
— Чего вам, пан староста? Подати или налоги привели?
Это раньше он был для батюшки ребенком, отроком, юношей, Семеном, а теперь стал паном старостой. Даже поп отделяет его от людей.
— Прошу вас, преподобный отче, отслужить панихиду… — запнулся Магазанник.
— Панихиду? По кому? Неужели по сыну? — смягчился воск старческого лица.
— Да нет, не по сыну… По одному человеку… По Човняру.
— По Човняру? Которого ты отдал за хуторок?
Магазанник безнадежно махнул рукой:
— Так уж случилось, батюшка. Не ты носишь корни — корни носят тебя…
— А кто-нибудь и подрубает корни людские, — снова уткнулся старик в книгу.
— Вот вам деньги за панихиду, — и Магазанник положил на стол чужие бумажки.
— Забери свои деньги, пан староста.
— Это почему же?
— Забери!
— Но…
— Забери! — как заклинание, в третий раз сказал отец Борис.
И Магазанник должен был забрать деньги.
— А как с богослужением?
— Отслужу.
Магазанник еще помялся возле стола:
— Вы, батюшка, презираете меня?
— Ты спроси у сельчан: кто теперь не презирает тебя? Дети наши бьются с василиском, со скорпиею, а ты душегубством наживаешь землю. Не уродит она тебе ничего, кроме лиха.
У Магазанника пересохло во рту, пересохло и внутри. И тут наглотался позора под самую завязку.
— И что вы посоветуете?
— Почему же ты, пан староста, раньше у меня совета не спрашивал? А теперь скажу одно: сколько ни старайся, а вчерашний день не вернешь. И вчерашней воды не догонишь — со всеми грабителями и даже с самим Гитлером не догонишь.
Еще сентябрь мало думает об осени — под старыми придорожными липами жаром пышут золотые короны девясила, а в дуплах лип не поселились ветры. Вот только на сенокосах и в низинах скошенные отавы пахнут не столько травой, сколько свезенным сеном. Этим, верно, осень и похожа на старость: дух прожитого более властно колышется над ней, чем дух нынешнего дня.
Как сама старость, идет себе шляхом отец Борис, прощается с летом или с летами и все же несет в торбе целительные травы, ибо кто теперь достанет людям лекарства? В молодости отец Борис мечтал стать лекарем, но родители силком заставили единственное чадо пойти в попы. Вот и прошел его век между церковью и кладбищем, и только целебные травы теперь утешают старческие руки, напоминают о тех далеких годах, когда мечталось сделать людям больше добра, чем сделано.
Слева блеснула петляющая речечка, возле нее на лугу, в отаве, пасется старый, отработавший свое конь; услыхав шаги, он подымает рябую голову и синим глазом, в котором залегла умная, прощающая человека печаль, смотрит на старика, потом, вздохнув, снова склоняется к отаве, что пахнет свезенным сеном. Позади затарахтела подвода, на ней неподвижно сидит Семен Магазанник. Вот с кем не хотелось бы встречаться ни на этом, ни на том свете.
— Садитесь, батюшка, подвезу! — еще издалека крикнул он.
— Тебе же не с руки.
— Ну и что?
— Езжай уж, пан староста, куда собрался.
— Пренебрегаете мной?
Старик помолчал и только теперь заметил, что в зеленоватых глазах Магазанника еще больше стало серого песчаника — тоже к осени идет. Уже миновав батюшку, староста вдруг остановил коней и ткнул кнутом в сторону притихшего хуторка:
— Батюшка, а что, если я отпишу хуторок церкви? Возьмете?
— Нет, пан староста, не возьму.
В голосе Магазанника зазвучала угроза:
— Смотрите, батюшка, чтобы не каялись потом!
— А ты не стращай меня, — чуть слышно ответил старик, — у меня уже вечереет в глазах, я прожил свой век и ничего не боюсь, кроме бога. Себя стращай и сам страшись.
— На что же вы надеетесь, батюшка, сегодня? — с нажимом вымолвил Магазанник последнее слово.
— Один бог знает, что будет завтра, — ответил на его слова отец Борис. — Ты лучше подумай, как в теле душу от черного духа спасти.