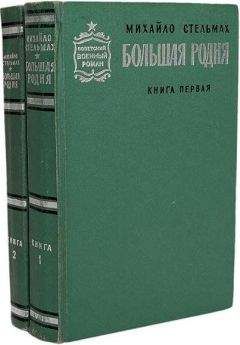Михаил Стельмах - Четыре брода
— А ты, Семен, тоже подумай о главном — не подмени своей доли чужой. Тогда уже ничто не спасет тебя. Были у тебя нетрудовые деньги — понахватал их на темных торгах, — а долей не торгуй! Говорят, убежать от себя невозможно. Но теперь такое время, что тебе надо убежать от себя, вылущиться из шкуры перебежчика.
— Ты кто такой?! — Хмель улетучился из головы старосты, и он уже со страхом посмотрел на Лаврина. — Кто ты такой?
— Человек, — как-то странно улыбнулся гость, а потом спросил: — Так отдашь людям красного командира?
— Уже не могу — он у полицаев.
— А ты выхвати его оттуда.
— Не могу…
— Теперь и через «не могу» надо переступить. Это если твоя совесть навеки не уснула.
Староста сомкнул глаза и сжал губы, а потом рубанул:
— Так за это, если я скажу хоть одно слово, не дойти тебе до твоего брода.
А Лаврину хоть бы что, он снова усмехнулся, гордо поднялся из-за стола:
— Не пугай меня смертью. По-разному умирают птица и хорек… Да, идя за чужой головой, думай и о своей. И не советую тебе соваться на наш брод. А почему? Так, верно, сам догадываешься, — и он спокойно, неторопливо вышел из хаты, еще и дверью хлопнул.
И тогда страшная мысль забрела в голову старосты: если даже такие, как Лаврин, ударились в политику, то скоро настанет Судный день и для Гитлера, хотя тот уже и на Индию нацелился.
XXI
Ох и день же сегодня выдался, чтоб он в вековечные дебри да болота провалился!
Не успел Магазанник проводить Лаврина, как к воротам нечистая сила приперла бричку с крайсагрономом Гавриилом Рогиней. Этот ненасытный пока свое «угу» скажет, — полкабана с копытами съест: наверное, у него из живота дно выпало. И сам черт не разберет, чем дышит человек, которого Безбородько называет то мумиеведом, то латинистом.
Вот он, высокий, сухопарый, обметанный морщинами, которые увядшим укропом лежали даже на веках, поднимается в бричке, отряхивает ладонями и манжетами со своей костлявой фигуры пыль осени и стропилом становится на землю, потом неторопливо подходит к калитке, обеими руками повисает на ней. Калитка трещит, волкодавы беснуются, а Рогиня, ожидая Магазанника, хранит на потускневшем лице бремя поминок. Кого же он похоронил или, может, кто хоронит его? Это теперь, при новой власти, стало обычным делом. Хозяин, приглядываясь к флегматичному гостю, встречает его со смешанным чувством угодливости и скрытой насмешки и принюхивается, не имел ли уже гость зубополоскания.
— А вы, пан, никак, с гулянки едете?
— С похорон, пан, с похорон, — хмуро говорит крайсагроном и так вперяет взгляд под ноги, словно всматривается в могильную яму.
— С чьих похорон, пан?
— Со своих, с твоих и всех поганых панов, какими теперь стали мы, — неожиданно разговорился агроном. С белой горячки, что ли?
— Такое вы скажете страшное, — попытался успокоить его Магазанник.
— То и говорю сегодня, что будет завтра, — поплелся к хате Рогиня. Тут он перекрестился на золотую и серебряную пену образов, примостился у края стола, взглянул на Магазанника одной безнадежностью. — Нет ли у тебя, пан староста, какой-нибудь бешеной горилочки, чтобы приглушить дурной ум? — и постучал кулаком по тому месту, где его глупую голову прикрыли редко посеянные волосы.
— Это зелье найдется. Только зачем вам горилкой туманить разум?
Рогиня болезненно скривился.
— А что теперь, пан староста, остается делать, если все ходим под властью Люцифера?
— Не знаю.
— И я не знаю. За чечевичную похлебку пошли мы, отступники, на каинову службу к фашистам. А они, знаешь, что пишут о нас: «Сейчас настало время биологического истребления славян». Слышишь: уничтожения не большевиков, не партийцев, не комиссаров, а всех славян! Вот на что замахнулись! — Рогиня рванул из кармана смятую газету и бросил ее на скамью. — Еще не победив славян в бою, фашисты уже думают об их физическом истреблении, только нас, пресмыкающихся дурней и разную труху, сегодня еще панами величают. А завтра и из этих панов кишки выпустят.
Магазанник, побледнев, оторопело слушал агронома.
— Когда вы узнали об этом?
— Вчера. Нацеди своего дурмана.
Рогиня сразу опрокинул чарку горилки и заговорил, обращаясь то ли к старосте, то ли к бутылке:
— Понимаешь теперь, староста, что такое баранья порода? Нас какие-то мелкие боли, мизерные обиды или выгоды ослепили, и мы стали обреченными баранами. Вот и погибнем, как бараны.
— Но ведь Безбородько говорил, что Украине немцы пожалуют протекторат, как Богемии или Моравии, и не тронут ее, пока она будет хлебным амбаром.
— Твой Безбородько — паршивый нечестивец, которому только хвоста не хватает, и запомни: кто черту служит, тому дьявол платит. Безбородько — это хитрец, который и на чужом, даже змеином, яйце сидеть будет. Он с националистами и протекторатом довольствовался бы, но дудки — фигу получит, а не протекторат. Почему тебе этот людоед не сказал, что говорят об Украине Гиммлер и Кох?
— А что говорит рейхскомиссар?
— Налей еще горилки.
Рогиня чокнулся с бутылкой, криво усмехнулся: «Пейте, жилы, пока живы», опрокинул чарку, потом достал из кармана записную книжечку, тряхнул ею, и из нее выпал густо исписанный листок.
— Вот послушай, пан, что глаголил недавно Кох своему отродью: «Ныне над Германией реет знамя вечной Германии. И Украина не плацдарм для романтических экспериментов, о которых еще сегодня мечтают фантазеры без почвы и некоторые полуживые эмигранты. На Украине нет места для диспутов теоретиков о государственном праве, так как нет самой Украины: это название сохранилось только на старых географических картах мира, которые мы властно перекрываем своим мечом. Вместо Украины будет жизненное пространство, неотъемлемая часть немецкого рейха, которая должна стать житницей великой Германии. И нет украинцев. Есть туземцы. Они должны удобрить своими трупами эту землю или работать на этой земле на своих господ и повелителей, пока не придет время их полного уничтожения…
Всем могуществом нашей немецкой энергии мы раз и навсегда должны заглушить бандуру Шевченко. Железом и кровью обязаны мы утвердить наше господство. В бессловесный рабочий скот, в рабов, что дрожат от страха, мы должны превратить тех, кому пока что дарована жизнь…» Кажется, и дьявол не сказал бы такого.
— Вот это да, — съежился, растерянно пробормотал Магазанник и почувствовал, как на лбу, в бороздках морщин, едко пощипывает пот. — Пришли властители мира и освободители!
— Да они из тех, кто душу от тела освобождает! А тут еще и мы, безмозглая труха, безмозглое панство, впряглись помогать погонщикам смерти.
— За кого же бы теперь? — не знает, что и подумать, староста.
— А думаешь, ведаю, за кого? После этих слов Коха я уже, считай, фашистам не служака, а к большевикам страшно вернуться — ведь не поверят. Так и повисла грешная душа без пристанища между небом и землей, — хмельные горести зашевелились на измятой сетке морщин и в пригасших глазах. — Нелегко мне было и в прежние дни сносить обиды — кто только не колол мне глаза половством, — а сейчас, даже не моргнув глазом, отдал бы жизнь за былые годы, только кому она теперь нужна? Налей, да выпьем еще за наши глупые головы, что сами полезли в петлю. Однако, когда придет мой Судный день, одно смогу честно сказать людям: на моих руках нет и не будет ни одной капли чужой крови.
Жутко стало Магазаннику от этой страшной исповеди. А может. Рогиня узнал об аресте Човняра? И снова сквозь него прошли давние годы, а перед глазами встали Човняры — отец и сын. Он торопливо хлебнул самогона, остановил взгляд на Рогине, и вдруг зловещая догадка пронзила мозг: а что, если агроном стал провокатором и проверяет его? Теперь все может быть в этом злобном, исковерканном мире, теперь невзвешенное слово забирает жизнь.
— Растревожили вы меня на весь день. И зачем вы это рассказали мне?
Рогиня словно заглянул ему в душу:
— Ты, пан староста, принюхиваешься, не проверяю ли я тебя? Не опасайся. Видел при первой встрече, что ты не по доброй воле согласился стать старостой, вот и доверился тебе, а теперь тоже мозгую, не продашь ли меня. Видишь, какая жизнь настала. Сидим мы, двое сычей, которые почему-то не смирились с большевиками, не знаем, куда себя девать, а в это время не кто-нибудь, а те же большевики кладут головы, воюя с душегубами… Безбородько же о нашем разговоре ни гугу… У тебя найдется, где проспаться от хмеля и тумана в голове?
— Разве что в другой половине хаты — в маленькой комнатке душно будет. Вам сена или пуховик под бока?
— Теперь сена, а потом — земли, а то люди пожалеют для нас досок на гробы. И правильно сделают.
Магазанник обозлился: «Вишь когда совесть заговорила. Видать, накаркаешь смерть на свою и чью-то голову. Не потому ли тебя и прозвали мумиеведом?»