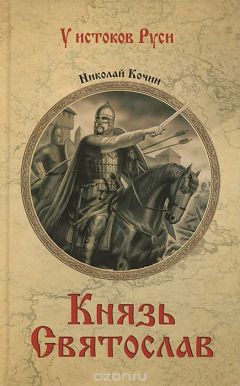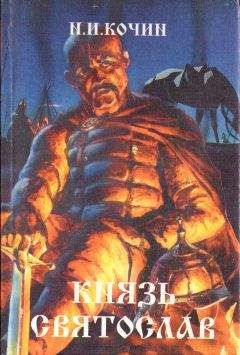Николай Кочин - Девки
— Ничего не понимаю, — ответил Иван. — Я всего боюсь, инда весь дрожу. По нашу душу приехала эта мокрохвостка Парунька.
— Мокрохвостка эта — с головой баба. Она в городе узнала, что статья мною написана. И насчет проделки папаши твоего с этим артельным делом она же расследование ведет. Она его раскроет! Да ведь вот беда — я в ответе. Ведь отец, он меня прошлым мучает. Он меня погубит!
— Погубит, — согласился Иван. — Он никого не пожалеет. Гляди, вот я мыкаюсь, как блудный сын. Изображаю уехавшего на заработки, а я не член союза, да и работать мне не хочется. Вот и скитаюсь по лесам, пугаю людей, а сам таракана боюсь. Мишка тоже со мной. Эх, конченные мы люди! Отец все грозится, все на дела подбивает. А что его укусы целой Расее? Расея — страна вон какая, конца краю нет. Лютов говорил — четырнадцать стран ее валили, повалить не могли. А отец, как безумный, свое твердит: капитал все пересилит. Послал меня опять служить тебе — почему заходил. Насчет Паруньки интересно ему знать, с каким умыслом приехала.
— Беги скорей отсюда, — зашептал Полушкин, — беги прытче и скажи ему напрямик, что дело такое — готовься, мол, на суд. А мне не до него. Я знаю, он что-нибудь новое мудрит. Только капут, я ему больше не слуга! У меня дети, я председатель Совета. А мне с вами страшно... Ведь Анныч-то не сам сгиб. Есть у Паруньки данные, документы у него были насчет мельницы, и документы эти исчезли. Подумай-ка, ведь это что же такое? Меня даже в жар бросило. Отец твой все знает. У него сорок пар ушей да столько же глаз, он молчит, а за него все деньги делают.
— Неужто? — пробормотал Иван. — Анныч-то... Неужто отец причастен? Не верю я.
— Бумаги-то пропали.
Они стояли в темноте подле клети. Полушкин вздыхал, переступал с ноги на ногу и, беспокоясь, что-то желая предпринять, шаркал руками о трухлявые бревна клети.
— Передохнуть бы малость за баночкой, — молвил Иван, — все бы легче. Душу-то малость пожгло бы. Пошли, Яшка, бабу.
— Уходи с глаз долой, — закричал Полушкин в ответ, — и ко мне не показывайся больше ни разу! А отцу передай — больше ему не слуга! Пусть сам как хочет, так и выкручивается, Малюта Скурлатый!
— Что больно тревожлив стал?
— Потревожишься! У кого совесть нечистая, так тому и тень кочерги — виселица.
Полушкин проводил Ивана через задние ворота на гумна. Иван пошагал одиноко к темной стене бора. Ночь он шел рощами, кустарниками, вспольем. Перерезав немало долов, перепутий и речек, он остановился за Мокрыми Выселками, передохнул у дуплистой сосны, потом стукнул по ней три раза палкой и прислушался. В ответ последовал такой же стук. Тогда Иван тронулся дальше и вскоре подошел к одиноко стоящему в лесистом долу строению. На стук в дверь вышла баба, низенькая ростом.
— Канителить долго ли будете меня? — сказала она сердито. — Никаких ваших денег не надо. Чем вы промышляете об эту пору? Товарищ твой тоже только что возвратился. А ведь вы, кажись, честный народ, хороших родителей дети. Сами видите, сколько народу ко мне ходит. Скажут, шинок завела на старости лет, дура, али хахалей...
— Брось языком трепать, Марфа, — ответил Иван спокойно. — До хахалей ты в молодости была охотница, говорят люди. Теперь тебе деньга нужна, а мы тебе достаточно за привет платим. Посетители твои нас не видят, верят в тебя крепко, да и бестолковы, — ничего дурного не помыслят. Наверно, уйдем мы от тебя скоро, гонители наши и сюда, пожалуй, доберутся. Подержи пока. Ведь ты по матери нам как-никак, а дальняя сродница.
Он прошел и глубь избушки за занавеску. Там на полу врастяжку спал Бобонин. В головах его лежал винтовочный обрез.
Глава седьмая
Смятение началось с того, что Игнатий Пропадев не вышел плотничать после праздника и совсем исчез из села.
Привычки заявлять в милицию о пропаже человека на селе еще не выработалось, и искали исконными средствами: мужики всех соседних селений были оповещены, что такой-то человек в памяти и здоровом рассудке сгинул с глаз, матери на печаль и бабам на пересуды.
Все волновались, потому что знали — Игнатий к водке привычен, неделю пьет, две пьет, но никогда не сопьется, а непременно придет домой и уж обязательно будет в свое время на работе.
Выпивал Игнатий обычно у Квашенкиной Усти, к которой питал нескрываемо нежное чувство. Частенько заночевывал там на радость ей, попу на горе и себе на веселье.
На этот раз Устя, сама вдосталь перепуганная исчезновением Игнатия, поведала бабам, что Игнатий действительно был у нее под утро. Пришел он в одной рубахе без пояса, с синяком на щеке, постучал в дверь, выпросил полбутылки и удалился.
Парунька снарядила выборных искать его в ближних лесах и оврагах.
Нашли его в Дунькином овражке. Тело Игнатия, засунутое меж двух больших пней, лежало и тени громадной березы. Трава подле Игнатия примята, густо усеяна окурками, яичной скорлупой и очистками от воблы. В стороне громоздилось немалое количество бутылок, виднелись следы неумеренного принятия «горькой».
Малафеиха по усердной просьбе Игнатьевой матери согласилась молитвой привести его к жизни, испросив плату натурой несколько больше обычной, как за безбожника.
На вторые сутки Игнатий открыл глаза к пошевельнулся.
— Это змея? — спросил он, указывая на чтицу.
— Это не змея, а богоугодная старица, — ответила мать в плаче, — тебя, дурака, пьяницу, к жизни молитвой да воздыханием приводит, отгоняет от тебя бесов.
Игнатий закричал, замахал в страхе руками и с той поры стал в полуразуме, телом воспрял, но немощь духа от него не отошла.
Стал Игнатий всех уверять, что змеи его непременно ужалят и погибель принесут. Сидит, сидит, а потом вдруг вскочит и заорет:
— Бегите, спасайтесь, вот они, змеи эти! — и тотчас же бежит к сковороднику, хватает его и острием тычет в пол, глушит невидимую змею.
С той поры соседи боялись заходить к Игнатию. Сельчане одаль обходили его избу. В селе развелись пересуды: одни настаивали, что это колдовство самой Усти, с которой Игнатий любовь давно делит, а в жены не берет, другие опровергали это, говоря, что вовсе не в колдовстве дело, а просто кровь в роду Игнатия такая дурная, что временами мутит ум и душу.
Нашлись и такие, что объясняли фокусы Игнатия брожением алкоголя в его мозгах по «законам химии».
Всякие шли толки, а дни меж тем катились, и, наконец, пришло время, что вернулся Игнатий к плотническому своему делу. Но рассказать про то, где он пропадал и что за эти три дня делал, он никак и никому не хотел.
— Это, говорил он, — вечная тайна и умрет со мной, если люди об этом сами не догадаются. Выдать эту тайну — значит, людей погубить и самому погибнуть в первую очередь ни за что ни про что.
Вскоре слух тревожный пронесся вихрем по селу, что и к попу Израилю прилепилась хворь вроде Пропадевой. Поп ездил с требой в деревеньку Ветошкино, долго оттуда не возвращался, и соседи рассказывали, что он прибыл только ночью на другой день, и в комнатах у него до утра отстаивался свет.
Подряд целую неделю после этого поп не показывался на улицу и даже в ближайшее воскресенье не справлял службу, отговорившись недомоганием. Он призвал членов церковного совета и Малафеиху и о чем-то сокровенно с ними шептался.
Вскоре у Лобановых пропала овца. Карпова жена ноги сбила, искавши овцу по лугам и оврагам, и тут ей совет дали отправиться к бабке Полумарфе в Лиходеевский дол, в котором она теперь обреталась. Бабка Полумарфа дала Анне совет, и овца действительно вернулась, как было указано ею, в третий день, неизвестно откуда взявшись.
В Немытой возвратился интерес к Полумарфе.
Полумарфа была беспоповкой, щепотников и бритоусов недолюбливала. Та сторона района, где Лиходеевский дол, была сплошь кулугурская. В Лиходеевке имелась обитель, и несколько стариц там издавна славились божьей жизнью. Были у них и земли, и леса, но потом земля эта отошла к мужикам, а старицы пристроились чтицами — ходили по богатым кулугурским домам отчитывать покойников и изгонять хворь из людей. Бабка Полумарфа особо прославилась этим. Говорено было, что она поселилась теперь для спасения души в часовне у колодчика.
Часовенку эту выстроили лет пятнадцать назад, когда было объявлено старицами «чудо» — в Лиходеевском долу на сухом месте из-под березы пробился ключ. Беспоповцы тайно ходили ночами к ключу, разрывали его руками, увеличили и отстроили — вбили туда кадку, а сверху положили березовый сруб.
Вскоре разошлась молва — вода «пользует». Местные кулугуры дневали и ночевали там. А потом объявились и сами «исцеленные». По району хаживали люди — баба, у которой ноги были в язвах, а после того как она помазала их водою и прошла «искус» — «все как рукой сняло», и ее приятель, у которого десять лет был отнят язык, а потом речь вернулась вновь. Таких стало очень много — они ходили по району и просили на «нужду».