Александр Рекемчук - Избранные произведения в двух томах. Том 1
— Ах, вот оно что?
Его рука, оттопыренная в локте, поднятая на уровень плеча, потому что он все еще держал пальцы за пазухой, ожила, задвигалась: он вытащил из-за пазухи сигару, щелкнул зажигалкой, пахнул сизым дымком.
— Ах, вот оно что… — задумчиво повторил Виктор Викторович.
— Да, — кивнул я. — Временно. Может быть, ненадолго. Бывает, что это совсем ненадолго.
— Значит, всё?
— Что — всё?
Я не понял его вопроса. Этого странного вопроса: «Значит, всё?»
— Что — всё?
— Значит, всё, — повторил он.
Однако на сей раз вопроса не было. То есть в его интонации не слышалось никакого вопроса. Он вроде бы и о чем даже не спрашивал. Он просто сказал; «Значит, всё».
— Что — всё?.. — удивленно спросил я.
Я, ну, ей-богу же, ничего не понимал. Какой-то совершенно непонятный и дурацкий разговор шел у нас с этим типом.
— Да, Женя. Всё.
Он сказал это, глядя на меня с откровенной жалостью. С откровенной жестокостью.
И только тут до меня дошло, о чем он говорил. Что он имел в виду. Лишь сейчас я догадался, какой смысл вкладывал он в это «всё».
Я закричал:
— Нет!
Мы стояли с ним на улице. Точней — не на улице, а в переулке, что за комиссионным магазином, близ Пресни. Это был довольно тихий переулок. Не то что сама кипящая, звонящая, дудящая, свистящая, шаркающая, грохочущая Пресня. Нет, это был тихий и малолюдный переулок. Но, конечно же, он был не совсем безлюден: мимо нас шла какая-то бабушка с кошелкой, а ей навстречу шли две маленькие девочки — в зоопарк шли, наверное; чуть поодаль стояла «Волга» с открытым капотом, и под этим капотом, согнувшись, копошился шофер; дорогу от дома к дому не спеша пересекала рыжая кошка…
В общем, тут было тихо.
И в этой тишине я закричал во весь голос:
— Не-е-ет!!!
В то мгновенье у меня будто помутилось в глазах, помрачилось в голове, но я все же заметил, как рыжая кошка опрометью бросилась в подворотню; как из-под капота «Волги» высунулась лохматая голова; как оглянулась бабушка с кошелкой, а две маленькие девочки, которые шли в зоопарк, вдруг рассмеялись…
Виктор Викторович недовольно и встревоженно огляделся по сторонам.
— Ну что ты, что ты? — забормотал он. — Ну зачем же, зачем же…
— Когда? — спросил я.
— Что — когда?
— Когда ехать?
Я стоял, сжимая кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони.
— А ты… сможешь?
На лице его появились одновременно тень сомнения и свет надежды.
С каким наслаждением вот сейчас я ударил бы по этому лицу.
— Когда?
— Завтра. В половине шестого. Как обычно, здесь.
— Хорошо. Я буду, до свиданья.
— Женя, погоди. — Он стал опять суетливо шарить за пазухой. — Тут тебе еще…
Но я повернулся и зашагал не оборачиваясь.
— …наш советский Робертино Лоретти!
Наконец-то. Впервые он правильно выговорил это имя.
Хоть чему-то я его научил.
Забухало, заскрипело: это он опускал штангу микрофона, прилаживая к моему росту.
И теперь предстояло выполнить то, чему научил меня он.
Я вышел из-за кулис, улыбаясь простодушно и застенчиво, с деланным смущением моргая на лучи софитов, на встречные, пока еще жидкие аплодисменты. Я приблизился к микрофону, осмотрел его с одной стороны, с другой стороны, постучал пальцем по сеточке, недоуменно пожал плечами: мол, зачем это? — и, ухватив поперек железину, понес ее на край сцены — заберите, мол, нам такие штуки без надобности…
Этот фокус действовал безотказно.
По залу покатился одобрительный смех, и меня еще до того, как я начал петь, вознаградили рукоплесканиями. Половина успеха, таким образом, была в кармане. Мерси за науку, Виктор Викторович.
Я милостиво кивнул Асечке.
Этот зал в подмосковном городе металлургов действительно был великолепен. Просторный, высокий, облицованный деревянной рейкой, кажется еще пахнущей сосновым лесом. Ряды расходились полукругом, круто ниспадали к сцене, и, наверно, каждому, кто там сидел, было все хорошо видно, хорошо слышно.
И насчет акустики Виктор Викторович не ошибся.
Я сам чувствовал, как ясно звучит мой голос, как отчетлива любая интонация. Ни одно усилие не пропадало зря, ни одно тишайшее вибрато не оставалось неуслышанным.
И та же акустика сделала совершенно оглушительными аплодисменты, когда я вслед за «Лючией» и «Солнцем» выдал на полной страсти и честной слезе «Вернись в Сорренто».
Ряды бушевали.
Асечка украдкой, перелистывая ноты, сморкалась в платочек.
Виктор Викторович, околачивающийся меж кулис (я победно оглянулся на него), улыбался во весь рот.
Я же в эту минуту окончательно понял, что Мария Леонтьевна ошиблась. Хотя она и доктор, но ведь бывают, как я слышал, такие отдельные случаи, когда доктора ошибаются. И вот это был именно такой случай. Она ошиблась. Наверное, у меня еще не началась мутация. Или же — вот было бы здорово! — она уже состоялась, минула. Дело в том (об этом я тоже слышал), что бывают мгновенные мутации: сутки — и уже другой голос. Правда, у меня не появился другой голос, он у меня остался прежним, и это было загадочно. Но каких только чудес не бывает на свете! Во всяком случае, Мария Леонтьевна, безусловно, ошиблась. Я буду петь. Я пою.
Шуберт. «Аве Мария».
Ровно, сберегая дыхание, я начинаю это тягучее, смиренное, молитвенное «А-а-а…».
Все идет хорошо. Теперь — верха.
И на первой же верхней ноте произошел «кикс». Голос вдруг сам собой соскочил, нечаянно соскользнул, как соскальзывает, соскакивает с бильярдного шара нацеленный кий — там, кажется, это тоже называется «киксом»…
Я тотчас выправил ноту.
Но Асечка от неожиданности сбилась, аккомпанемент дрогнул.
Я почувствовал, как перехватило горло — его будто сжало железной рукой. Я напрягся, стараясь разжать эту душащую руку. И разжал. Но в голосе появилась угрожающая хрипотца.
О, эта проклятая акустика! Теперь она выставляла напоказ, предательски удваивала, удесятеряла каждую шершавую ворсинку и каждую оголенность в звуке, каждый сбой и каждый перехват дыхания.
В зале была мертвая тишина. Какая бывает в цирке, когда канатоходец, черной повязкой закрыв глаза, ощупывает носком невидимую для него проволоку и делает первый шаг. А под ним нет сетки…
Я чувствовал, как бледнею… Казалось бы, при таком невероятном напряжении связок, напряжении всех еще оставшихся сил я должен бы, наоборот, побагроветь от натуги. Но я знал, что бледнею.
Да. Все-таки я прошел долгую и суровую школу Владимира Константиновича Наместникова. Там, на спевках, за пюпитром. Это была надежная школа. Она выручила меня.
Я последним усилием совладал с голосом. Я допел до конца.
Я сорвал голос.
5Впоследствии я часто думал: а что, если бы не сорвал? Если бы судьба не столкнула меня с этим гнусным и малокультурным жуликом, если бы я не повадился ездить в эти «левые» концерты? Если бы я не ослушался нашей горловички Марии Леонтьевны?
Что бы тогда? Неужели я остался бы при голосе, вернее — обрел новый?
Кто знает. Может, и остался бы, и обрел. Всякое бывает. Но теперь, когда непоправимое случилось, я почему-то все более склоняюсь к мысли: нет, все равно не было бы. «Не будет. Ничего не будет. Не будет никакого голоса», — вспоминал я наш с Колькой Бирюковым разговор на Птичьем рынке. «Как это — не будет? Совсем?» — усомнился я тогда. «Ну, останется, конечно… разговаривать. Тары-бары».
Да. Колька оказался прав. Вот и они, тары-бары.
Между прочим, ведь Колька еще вполне мог выжидать, уповать на лучший исход — он не срывал голоса, ему просто велели молчать до поры до времени, и он дисциплинированно молчал. Молчал как рыба. А сам готовился в бега… Значит, и он не шибко верил в свое исключительное счастье.
Ну, а если иначе? Если человек беззаветно и несокрушимо уверует: будет, обязательно будет! Или если он соберется с духом и на какой-то срок просто выбросит вон из головы эти никчемные гаданья: будет — не будет?.. Может, именно в таких вот случаях судьба оказывается добрее, снисходительней и вознаграждает человека: на, мол, тебе за терпение, за веру, держи, не роняй…
Не знаю.
Могу лишь сказать, забегая вперед, что из всего нашего класса, из всей нашей голосистой, а теперь замолкшей братии, из всех нас лишь один оказался счастливчиком. Запел снова — да как!.. Именно он оказался тем самым «одним из тысячи». Но это был не я. Увы. А кто? Секрет покуда.
Один-единственный. Но не я.
И опять подтвердилась правота мудрейшего из мудрых Николая Ивановича Бирюкова, сказавшего тогда, на Птичьем рынке: «Закон природы».
Закон не обойдешь. На то он и закон.
Но, между прочим, был такой способ. Только об этом уж очень противно рассказывать.

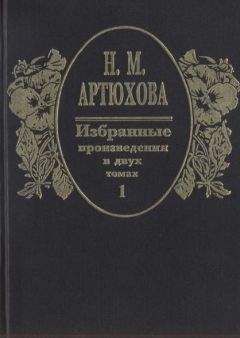
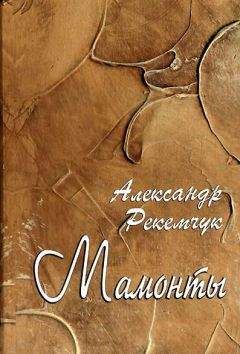

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/240148/240148.jpg)