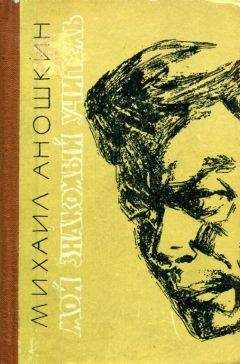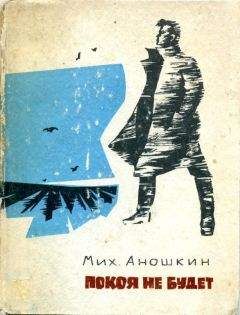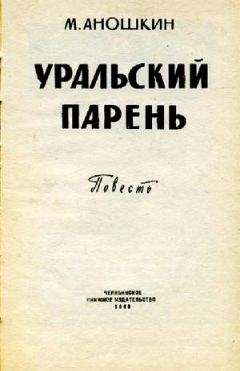Михаил Аношкин - Сугомак не сердится
— Есть, — ответил я, поднимаясь, но не сходя с нар.
— Много?
— Заходите, увидите.
Мужчина протиснулся в дверь и, повернувшись к товарищам, сказал:
— Залезайте, места хватит.
Запрыгал огонек карманного фонарика. Мужчина скинул рюкзак, расстегнул поясной ремень и спросил:
— Охотник?
— Балуюсь.
В балаган влезли еще двое, одна из них оказалась женщина.
— Я вам говорила, Павел Иванович, про этот шалаш, а вы не верили.
— Рад, что вы не ошиблись, — Павел Иванович сгрудил в камине угли, подбросил туда сучков и обратился к женщине:
— Теперь за водой.
Взяв котелки и фляжки, тот, кого называли Павлом Ивановичем, и женщина вышли. Третий закурил и растянулся на нарах. Я не видел его: так было темно в балагане, только еле тлели угли в камине, да мигал огонек папиросы.
Я повернулся на другой бок, но сна не было. Павел Иванович и женщина скоро вернулись. Он принес охапку валежника, она — воду. Павел Иванович сказал, видимо, что-то смешное, и женщина рассмеялась. Смех показался знакомым, я приподнялся и в трепетном свете костра, который разжег Павел Иванович, узнал Алевтину.
— Геологи? — радостно спросил я.
— По полету узнал? — отозвался Павел Иванович, пристраивая на камине котелок.
— Да нет! Алевтину вот узнал.
— Вы меня знаете? — удивленно произнесла она, повернувшись ко мне. — Ну-ка, выходите на свет, может, и я вас узнаю.
Я слез с нар, и она радостно воскликнула:
— Сашок! Батюшки мои! Да ты же второй Валентин — копия! Здравствуй, здравствуй!
Она пожала мне руку и привлекла к себе. Красный отблеск костра освещал ее ровные зубы, искорками переливался в глазах.
Мы вышли из балагана и сели на бугорок.
Ночь была на ущербе. Светлела восточная кромка горизонта, но еще не один час пройдет, пока заалеет небо. Лес притих. Только чудилось мне, будто вот-вот раздастся вон у тех темных березок чуфырканье или прошелестит глухарь. Ворчала речушка, рядом что-то монотонно поскрипывало. Наверно, надломили березку, упала она в речушку. Ее течение колышет, она и поскрипывает в изломе. А в ночной тишине этот скрип казался таинственным.
Я посмотрел на Алевтину. Она сидела в полоборота ко мне и задумчиво грызла травинку. Ее лицо словно освещалось изнутри и было мягким, приветливым. В ту ночь я снова вспомнил Золотую.
Мы говорили много. Она спрашивала о брате, и я, кажется, мало прибавил к тому, что она знала о нем. Валентин работал на Новотагильском заводе.
— А это моя первая самостоятельная экспедиция, — проговорила Алевтина. — Счастливая я, — сказала она задумчиво. — В детстве мечтала найти руду. Потом мне все казалось, что хожу не по земле, а по золоту, по руде, по драгоценным камням. Хожу как слепая. Чудачка я тогда была, — тихо засмеялась Алевтина. — Теперь я богатая: нашла, что искала.
Ее несколько раз звали ужинать, она обещала прийти, но все медлила. Наконец она поднялась и сказала мечтательно:
— Еще немного, и мы закончим разведку. Тогда поеду к Валентину. Важный, наверно, стал — инженер!
Наутро геологи поднялись чуть свет. Алевтина пожала мне на прощанье руку:
— Мы, конечно, увидимся. Только ты, Сашок, Валентину об этой встрече не пиши. Хорошо?
Я проводил геологов почти до сугомакской дороги и свернул в сторону, к Разрезам.
Валентину о встрече ничего не писал. Лишь в конце письма добавил:
«И в наших краях появилась Золотая».
ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
Когда августовские сумерки нависли над полями и березовыми перелесками, на отдаленный ток колхоза «Путь к коммунизму» въехала подвода. Невзнузданныи меринок помотал головой, покосился фиолетовым глазом на ворох пшеницы и потянулся к нему. Девушка-возница что есть силы натянула вожжи и сердито крикнула:
— Стой! Леша-ай!
Но меринок упрямо тянул вперед. Когда он достиг цели, потянулся влажными губами к пшенице. Из кустов, что темнели за током, вышел весовщик дядя Тимофей и схватил меринка под уздцы.
— Но! — грозно проговорил он, подталкивая меринка под челюсть. — Оголодал, дурень!
Девушка проворно спрыгнула с подводы и сказала дяде Тимофею:
— Ленивый такой. Кое-как доехала.
Девушке было лет восемнадцать. Была она в синем лыжном костюме.
— А Семенов тебя с твоим ужином не один раз поминал, — развязывая супонь, отозвался дядя Тимофей.
— Подумаешь, Семенов! — усмехнулась девушка, снимая с подводы завернутую в брезент алюминиевую посуду. — Его и кормить не за что — не заслужил.
Дядя Тимофей покачал головой, но промолчал. Расслабив чересседельник, он отвел меринка на поляну и пустил пастись. Сам ушел звать Семенова, ужинать.
Когда вернулся, девушка расстелила на траве брезент, расставила миски. Бидон с борщом стоял рядом. Дядя Тимофей подбросил в костер сухого валежника, набил трубку махоркой и, присев на корточки, прикурил от уголька. Потом подкатил к костру березовый чурбашок, сел и, пыхнув махорочным дымом, вздохнул:
— Вот так и идет.
— Что идет, дядя Тимофей? — не поняла девушка. Она резала хлеб по-крестьянски, прижав каравай к груди.
Дядя Тимофей сучком покопался в костре, вспугнув тысячу бойких искорок. Они рванулись вверх и исчезли.
— То и идет, — сказал он. — Сколько раз Семенову головомойку устраивали? А ему нипочем — не хочет работать ночью. И сегодня какую-то перетяжку затеял.
— А я думала вы о чем другом, — отозвалась девушка. — Будете ужинать?
— Покурю, а тут, глядишь, хлопцы подойдут. Газеты есть нынче?
Девушка подала пачку газет весовщику. Дядя Тимофей подвинулся к огню, из кармана телогрейки достал очки, приговаривая:
— Поглядим, что творится на белом свете, поглядим, — и развернул «Правду». Он перечитал заголовки, напал на какую-то интересную статью и, читая про себя, вслух комментировал:
— Ого! Вот это правильно. По-нашему!
Девушка то и дело поглядывала в поле. Когда комбайнеры появились, она радостно улыбнулась. Один из них был среднего роста, плечист, в замасленном комбинезоне, без кепки, подстриженный накоротко, под бокс. То был Семенов. Черная жирная полоса наискосок пересекла его щеку. Его помощник — Иван Чувячкин был ниже ростом со смоляной челкой на лбу.
Семенов лег возле брезента и, не глядя на девушку, буркнул:
— Наливай!
— Вымойся, — с укором сказала та. — Ведь грязный. Вода в котелке.
Семенов презрительно сжал тонкие губы, кинул на девушку колкий взгляд. Она пристально посмотрела на него. Семенов смутился и нехотя поднялся.
— Так его, Лена, приучай к дисциплине, — отозвался Чувячкин и, подойдя ближе, подмигнул: — Покруче с ним. Он тебя боится.
— И ты вымойся! Не чище своего дружка, — возразила Лена, густо краснея.
— Да? — удивился Чувячкин и почесал затылок. — А трюмо не захватила?
— Брось зубоскалить, Иван, — оборвал его Семенов. — Полей-ка лучше.
Чувячкин взял кружку и стал лить воду на широкие ладони товарища. Семенов фыркал и подгонял:
— Лей, лей!
Чувячкин вылил кружку холодной воды за шиворот Семенову. Тот взвыл, быстро распрямился и вцепился в Ивановы бока мертвой хваткой. Чувячкин присмирел и попросил:
— Я пошутил. Больше не буду. Полей мне.
— Я тебе полью! — пригрозил Семенов, однако кружку у Ивана взял и стал лить воду на его руки.
Лена испугалась за Николая, когда он вылил Семенову за шиворот кружку холодной воды. Но Семенов не рассердился на товарища, и ей сделалось смешно. Дядя Тимофей оторвался от газеты, посмотрел на парней поверх очков, покачал головой и снова углубился в чтение. Он уже добрался до районной газеты.
— Ого! — воскликнул он минутой позже.
— Так его! — отозвался Чувячкин. — Я его давно знаю!
Лена беспокойно взглянула на Семенова. Николай, небрежно бросив полотенце на плечо товарищу, лег у края брезента. Лена налила комбайнеру полную миску борща. Чувячкин, утираясь, подошел к костру и, заглянув через плечо дяди Тимофея в газету, спросил:
— Там Волгу с Миассом еще не думают соединить?
Дядя Тимофей снял очки, спрятал в телогрейку.
— Соединят, если понадобится, — серьезно ответил он, подвигаясь к брезенту. — На, почитай. Полезно!
Чувячкин присел у костра и жадно стал читать.
— Ты не задерживайся, — предупредил его Семенов. — Пока светло, надо закончить регулировку.
— Я одним глазом!
— В оба смотри, вернее будет, — сказал дядя Тимофей и обратился к Лене. — Молодец, Лена! Правильно ты их.
Семенов не донес до рта кусок хлеба, смутно догадываясь, за что дядя Тимофей похвалил Лену. Потом он перевел взгляд на девушку, тяжелый, пристальный. Лена резала хлеб и не подала виду, что чувствует этот взгляд. Семенов бросил надкусанный кусок на брезент, поднялся, подошел к Чувячкину, который внимательно читал газету.