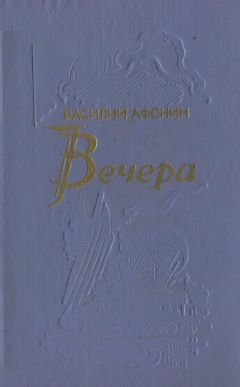Василий Егорович Афонин - Год сорок шестой
В сорок третьем умерла сестра Поленька, они с Варькой близнецы были. Умер дружок Сенькин — Сережка Карпухин. Умерла тетя Лена Лазарева, оставив Миньку. Миньку прямо с похорон мать принесла домой, с тех пор он и живет у Щербаковых. Многие умерли в ту зиму. А он, Сенька, как болел, кричал в бреду!..
В сорок четвертом от отца письма уже не приходили, мать писала несколько раз в часть, да без толку. И в сорок пятом писем не было. Сенька слышал, как мать плакала по ночам. Сначала все говорила им с Варькой: «Вот придет отец, вот придет отец...» А потом перестала. И начала отдавать за картошку все, что осталось от отца: ружье, с припасами, лыжи, столярный инструмент. Тулуп отдала.
Потом стали возвращаться фронтовики. Пришел дядя Паша Лазарев, дядя Тима Харламов. Раньше они часто ходили к отцу. А отца все не было. Пятую зиму без него. Лето всегда быстро пролетает, не заметишь. А зима тянется, тянется...
Сенька не любит, когда зима. Холодно, дров не хватает, и есть всегда охота. Каждую зиму ослабевал он сильно. Встанет на ноги, и шатнет его тут же, поплывет все перед лицом. Зиму эту он о весне думал, дни считал. Весной, только-только сойдет снег, подтает земля, пойдут они с Варькой опять на колхозные поля искать оставшуюся в зиму картошку. Каждую лунку тяпкой станут разрывать. Из толченой той картошки прямо на плите мать пекла душистые лепешки. Только раньше надо успевать, а то, как набегут на поле, встать негде.
А потом трава пойдет. Травы много, всем хватает, не ругаются из-за нее. Сенька с Варькой крапивы мешок набьют, насекут в корыте деревянном и начнут суп варить. Чугун ведерный — ешь, сколько сможешь. А летом, если на сенокосе работаешь, супом кормят колхозным. Картошка в нем попадается, и мяса крошечку дадут. Хлеб, правда, свой. С сорок второго года Сенька каждое лето на сенокосе работает, копны на быке возит. И Валерка тоже. И нынче пойдут. Да вот зима долго тянется, будто три зимы в одной. Сенька еще раз посчитал, сколько остается до травы, — больше двух месяцев выходило. Он посмотрел на небо, по солнца не видно было — серая нелепа. Хорошо было сидеть в тишине двора, смотреть на снег, городьбу, снегирей, да замерз он совсем. Пошел в избу. Вот потеплеет, чаще станет показываться на улице. Что там Варька делает? Суп уже сварился, наверно. Матери нет.
Варька сидела возле плиты, доваривала суп. Минька напротив дверцы грелся. Голова у Миньки лохматая, лицо сухое, серьезное, глаза большие. Сидит тихонько, смотрит сквозь дырочки дверцы на огонь, голову набок склонил. Сенька разделся и сел рядом. В избе потеплело заметно, плита раскалилась, малиновой стала. И окна чуть-чуть отходить начали, и пол не так холоден. Подбросил дров.
Таи и застала их Евдокия, сидящих возле печи. Суп сварился, а ребята сидели грелись, ожидая мать. Никогда они без нее не начинали обед или ужин, если сама Евдокия но накажет, поели чтоб. Тогда ей оставят. А так — ждут, разговаривают о своем...
Она, как вошла и разделась, сразу к печке. Прижалась грудью, руки раскинутые прижала к теплым кирпичам и щекой прислонилась. Варьке сказала только:
— Собирай на стол.
— А сама еще спиной к печке, спину погрела. Потом уже села за стол, похлебала супу и долго пила чай-смородник. И так ее разморило всю, потом прошибло даже. Лечь бы сейчас на минуту, ноги вытянуть, полежать, забыв обо всем. А надо идти, за дровами ехать. Встала, одеваться начала. И так ей в тягость было выходить опять на холод, идти ко двору скотному, запрягать и ехать! Да кому объяснить, кому расскажешь, пожалуешься? КТО слушать станет?..
— Мамка, — сказала Варька, выливая грязную воду в лохань, посуду она мыла, — дядя Паша заходил. Его с обозом посылают в город. Он завтра нам дров привезет. Они во вторник уезжают. И дядя Тимофей с ними. Ты не видела дядю Пашу?
— Так ничего в ответ и не нашла сказать Евдокия дочери, толкнула дверь и молча вышла на холод. Закрыла дверь, постояла бездумно на выходе со двора и пошла по своему следу опять в деревню, быка запрягать. Где гам бабы?
...Дядя Паша — Павел Лазарев, один из тех мужиков, за которыми, раздав быков, послал Кобзев бабу-рассыльную. Рассыльная ушла, а Кобзев гак и сидел за столом, не вставая, глядя на лежащий на столешнице список. «Сорвин, Милованов, Харламов, Лазарев», — перечитал он снова, будто впервые слышал фамилии. Эти четверо — все или почти все, кто остался от тридцати человек, которых летом сорок первого года Кобзев провожал на фронт. Проводили, собрал баб. Молчали долго.
— Ну, бабы, — сказал он им, — раз добровольно отпустили мужиков своих на фронт, надо работать теперь в четыре руки каждая. А уж вернутся, тогда отдохнем. А?
— Стали работать.
Лето сорок первого, осень... Сначала как-то не верилось, что война. Ощущения не было большой опасности. Да и старики подсмеивались:
— Дурь это, дескать, войну германцы затеяли. Шапками закидаем. Да ведь и правда... Подойдешь к карте — страна-то какая. Россия! Раскинь руки, и не хватит размаха от западной границы до восточной. И где-то там, в Европе, среди прочих государств коричневое пятно — Германия. Область любую возьми в России — и та больше площадью.
— Так и говорили тут между собой: «Полгода, год от силы, а там и конец войне. Сколько таких войн было, и всегда Россия побеждала! Да неужели на этот раз?..»
Полгода прошло, год, второй начался. Л потом как развернулось, конца и края не видать! И не гуда, к коричневому пятну, движется, а обратно, на восток. И вот оно, стали одна за другой приходить в Кавруши похоронки: убит, убит, убит. И тут не легче: один умер, второй, третий. Старики да пацанва. Два-три раза еще попервости сходил Кобзой на похороны, а потом и перестал. Не до того стало. Ну, старики стариками, многим и время пришло, но ребятишки, что жальче всего, — не жили еще. А бабы держались. Бабам тем, сколько будет жить на земле Кобзев, удивляться но перестанет, терпению их молчаливому. Глянешь на иную — жилы одни, а тянет. Мужикам бы силу такую, выдержку! Девки за бабами тянулись, подростки.
Сорок первый, сорок второй — боже мой, время будто остановилось! До войны, бывало, только уборочную закончили, Октябрьские праздники отгуляли, вот он — Новый год, Первое мая. А сейчас будто в год один военный кто три вложил — тянется, тянется, и конца ему ноту. Вызовут в район... «Ну как, товарищ Кобзев?» — «Как? Будто не знаете?» — «В эту осень нужно сдать государству столько-то!» — «Сдадим», — спешил ответить и уехать спешил. Он и до войны не любил ездить туда, отговаривался всяко. Что толку носиться назад-вперед? И не любил никого там. Он, Кобзев, пятнадцать лет председателем топает, а их за годы эти столько же перебывало. Что ни год, то новый. И у каждого свой метод руководства, своя установка. А он, Кобзев, не игрушка на резинке, чтобы дергаться в разные стороны. Он умел руководить и знал, что умеет, и там, в районе, знали об этом. Но до войны люди были, тягло, машины. Тогда можно было говорить, и планы намечать, и отвечать за планы те. А сейчас сколько получится, столько и сдадим, не спрячем, а заранее что и обещать? Жнейки, сенокосилки — вон они стоят, да кому работать на них? Кого впрягать в них? Вот о чем речь. А наобещать можно. Ты ж потом и виновный...
Сорок первый, сорок второй, сорок третий. Сорок третий, сорок третий, сорок третий. Вот когда растерялся Кобзев. Семнадцать похоронных оттуда, здесь вдвое могил. Думал, неужели не вытянем? Если там не устоять, здесь — конец всему. Только б там! А уж здесь сами в сенокосилки, в жнейки те впряжемся, потащим. Радио нет, газеты приходят с опозданием. Как гам? Что? Кто кого?
Вызывают. «Ну как, товарищ Кобзев?» — «Хорошо». — «План сдачи хлебозаготовок помните?» — «Как же, записан». — «Мы на вас надеемся, товарищ Кобзев. Постараемся скоро быть...»
Не успеешь доехать до Каврушей, вот они следом, уполномоченные. По мясу, но молоку, но кожам, по посевной, по уборочной. Но с теми у Кобзева разговор недолог. Вызовет кладовщика Яшкина, прикажет зло:
— Накормить! Дать с собой! Не мешали чтоб. — Потом за счет колхозников спишется. И чем они могли помочь колхозу, уполномоченные те, не понимал Кобзев. Присутствием своим разве?.. Баб подгонять? Не нужно. И так натянуто до последнего. Кобзева учить? Чему? Как солому скирдовать? Не нужно, с детства знакомо. Впрочем, были и безобидные...
— Вспахали, посеяли, убрали. Ссыпали в мешки, погрузили, увезли. План сдачи хлебозаготовок. Паши снова. Хлеб нужен. Хлеб нужен заводам, фабрикам, рудникам, армии. Нужен, это понимал Кобзев. Но ведь и здесь нужен тоже. Все равны, всем поровну. Здесь нужен в первую очередь. Тем, кто выращивает его. Они тоже есть хотят. Нужен, зимой крапива не растет. Или не понимают этого? Не видят?..
— Денисова! — выкликает баб кладовщик Яшкин в конце расчетного года. Счетовод тут же сидит.
— Распишись вот здесь. Денисова. В этой вот графе. Так, готово.
— Сколько же мне приходится? — склоняется баба над ведомостью. Почем трудодень?