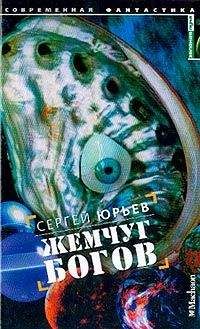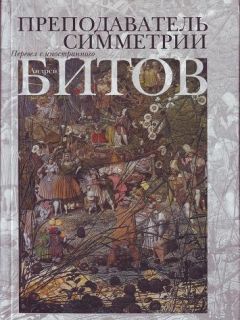Андрей Битов - Путешествие из России
А вот и Дерево. Дерево значит дом. Деревьев тут полно, но Дерево здесь одно. Оно растет у самого дома, и хоть оно тоже за границей ботанического царства, но – такое же могучее и древнее, из их рода, состоящее с теми в родстве, патриарх елизаветинских огородов. Оно нависло через всю улицу, дотянулось нижней гигантской ветвью до собратьев и последним хоть листиком, но нависло туда, за решетку, к своим, в сад… Эту ветвь обломил грузовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть свалившийся с него контейнер.
И ветвь загородила всю улицу, сама как столетнее дерево. Очень я жалел ту ветвь. Но довольно скоро, точно так же могуче и низко, нависла через улицу следующая ветвь. Памятуя об аварии, ее вовремя спилили. Тогда все Дерево потянулось туда, к саду. Так и росло под углом… Приятно было, подъезжая на такси, в очередной раз произнести: «Вот под Деревом остановите, пожалуйста». И никогда шофер не переспрашивал, настолько было ясно, что значит «под Деревом». Три года, как его нет. И каждый раз взгляд мой спотыкается об эту пустоту, об эту возмутительную плешь, оголившую нашу подворотню. И ночью, подъезжая на такси, я до сих пор открываю рот, чтобы сказать шоферу, как следует остановиться, но спохватываюсь: шоферу Дерево невидимо. Нечего мне теперь ему сказать, на эту секунду выходит лишние двадцать метров, прежде чем я грубо говорю: здесь. Ну, возвращаюсь немного назад.
Дерево спилили – это было СОБЫТИЕ. Долго валялись во дворе его слоновые чурбаки. Отцу мы про Дерево не сказали. Отец уже не выходил на улицу и про Дерево так ничего и не знал. Я застал свое сорокалетие в Москве. Он успел меня поздравить по телефону… Через час… Когда я прилетел первым рейсом и стал одевать отца и просунул руку под поясницу… то было последнее его тепло.
Из обширной связки ключей от многочисленных чужих домов я достаю один. И прежде чем повернуть его в замке, просовываю руку в щель почтового ящика: шторка, приоткрывшись, звякает. По этому звуку все узнавали, что пришел отец. Я поворачиваю ключ.
– Здравствуй, мама.
С каким бы постоянством и настойчивостью ни жаловались мы на жизнь, в настоящую минуту мы не будем сознавать, насколько положение наше ужасно. У нас не рак, в нас не стреляют, все, слава богу, живы. Чем хуже положение собственное, тем оно более и свое: ни с кем бы не поменялся. Другим как бы еще хуже. Настораживает только категорическая недопустимость дальнейшего ухудшения. В этом смысле хуже уже некуда. А так вообще-то ничего еще. Можно. Если не слишком долго.
Зато смерть была мгновенна. Он о ней даже не подозревал. А он ведь так ее боялся. Последний день был даже какой-то легкий, хороший. Даже аппетит: котлетку попросил. Племяннице и сослуживице позвонил. Больше года никому не звонил, а тут позвонил: принял поздравления с моим сорокалетием.
Лицо у него было красивое, ясное. Кровоподтек на лбу: ударился, когда упал, – почти незаметен. Так ведь, оказывается, врач сказал, больно ему не было: падал он уже мертвый. Он умер даже прежде, чем встал. Мертвый встал и упал. Ну и что ж, что кремация. Это была и его воля. К тому же удалось похоронить на нашем кладбище. А там захоронения уже запрещены. Гроб бы не удалось…
Соображение, которое мне никогда не удается додумать: эти две бритвы, перерезающие жизнь отца… Как бы слабо она в нем ни теплилась, она не успела сойти на нет, не гасла последней точкой, а оборвалась, вся, какая в нем была, – фронтом, водопадом. Не его собственное существование, а весь мир, представавший перед ним, рухнул в эту пропасть. Вот особое качество времени и темноты, которое не могу осмыслить: мир, разрубленный, как яблоко. И затем – печь… Куда наведывалась его душа на третий, девятый, сороковой?..
Но через год он наведался лично, во сне. Будто на улице встретился. Был он как-то обтрепан и весел. Легок. На брюках бахрома. Я был с мамой, а он очень обрадовался именно мне. Потрепал по руке. Мама даже приревновала: «А меня?» Потом мы обедали в какой-то забегаловке: отец ел жадно и молодо, мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал (манера, так раздражавшая когда-то мать), рассказывал матери с энтузиазмом о моих литературных успехах. Это было так удивительно и на него не похоже! Вот кто, слава богу, полагал я, не дожил до этих «успехов»: он бы их не вынес. А тут на тебе, убеждает мать в обратном… Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем порасспросить его о «тамошней» жизни (не американской, а загробной), он отмахнулся, жуя: «Да я там редко бываю…» Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда… но, с другой стороны, неприкаянность эта была как бы только внешней, иначе откуда эта беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны? Поэтому я не остановился и спросил его о главном: я склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему: «Ну а сколько мне осталось?» Отец глянул и зажевал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен, в таком случае, успеть. Имелось в виду мое Дело (с большой буквы), которое, как мне стало теперь ясно и, по-сыновьи, лестно, он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно, наконец, что-то окончательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне, даже небрежно, как бы не разделяя нашей смертной и праздной заинтересованности в жизни, – выкинул два пальца. На свободной от вилки руке. Как рога или заячьи уши. Или чтобы не поняла мать. Или это римское пять. С чего бы римское?.. Тогда уж мог выкинуть по-русски – пятерню. Или это означало латинское V – виктория? Конечно, мне сразу показалось мало – два. Я подозревал, что немного, но не два. 25 июля 1980-го… нетрудно было тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось. Сон распался.
Но впереди было по крайней мере два года…
В одном отец уже оказался прав: в той своей мине пренебрежения к моему интересу. Ничего я не успел за эти два года! Жизнь есть жизнь. Ее не поторопишь. Пятилетку в два года я не выполнил. И с предупреждением я прожил, как без него, и, в этом одном смысле, я собою доволен. В этом смысле я оказался свободен и лишней палочки к своему кресту не приколотил. Осталось три месяца.
Если не виктория, конечно…
Так что положение мое не кажется мне скверным. Потому что – куда тут хуже? Друзья покидают… Девушка не приезжает… Дела прикрылись, денег нет; развод, жить негде. И не пишется: плоды зацементировались в моей утробе, ни одного яичка не снес. Так и не снес… зачем было тогда отца выспрашивать? Правда, дети мои – не нарадуюсь. Вот только дочь не поступила и сын опять простужен. Правда, в отношении принятых на себя… до сих пор справляюсь: доедаю автомобиль. И живут они все еще, как будто я есть. Правда, есть еще несколько неполноценных читателей, для которых я свет в окошке. Убогие, неполноценные, но я им нужен и, слава богу, с ними еще незнаком. Правда, есть еще несколько бывших и будущих красавиц, благосклонных ко мне. Но лучше бы я был хуже для них, чем для себя. Правда, матушка – дай ей бог здоровья!
В общем, устроился…
Блудный сын, возвращаюсь домой. Сорок лет назад меня сюда привезли; и вот проходит каких-то сорок лет, и я опять здесь! Оплот! Мне все еще есть «куда прийти» – это ли не итог.
Мама у меня девочка. Говорит бойко и радостно, никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению… говорит, и будто у нее за спиной две гимназические косички прыгают или два пыльных бабочкиных крылышка трепещут… Обсыпает меня всеми семейными новостями – причем совсем последними, совсем мелкими, словно я всего вчера вышел и, следовательно, все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь этой пыльцой, принимаю вспять форму кокона, спеленываюсь и готов больше никогда не родиться, а здесь с нею, с мамой, и пребыть…
– А ты знаешь, нас выселяют! – весело прощебетала мать.
Подробности мне рассказывает сосед Никонович. Мне кажется, он слегка привирает, что ему уже 89. Но возможно. Паспорт он мне показывал. Возможно, Никонович вечен. За последние сорок лет он не только не изменился, но решительно помолодел. В Институте геронтологии он числится как объект. Он высок, строен, легок; на гладко выбритых щеках бодрый румянец; и седины у него не больше, чем у меня. Четыре войны упрочили его осанку и выправку, и сознательное холостячество пошло впрок. Начинал он с унтера, теперь по вызову «Ленфильма» соглашается выходить в мундире не ниже полковничьего, впадая уже в царскую фамилию, на уровне великого князя. К его бравому виду пристал зычный голос, грассирующий баритон. Но баритон у него удален по поводу рака гортани, операция прошла преуспешно, так что и в онкологическом отношении он теперь – объект. И надо сказать, таким разговорчивым, как после операции, он никогда не был. Сначала его было трудно понимать, и он писал бесконечные записки твердым гимназическим почерком. Теперь то ли он, то ли мы научились. Я перестаю себя слышать, что отвечаю, и мы беседуем, как две рыбы в аквариуме.