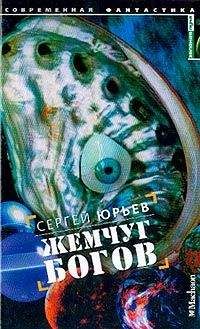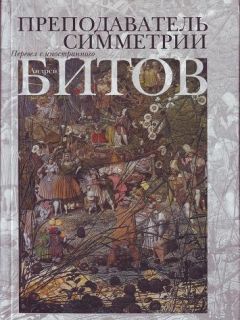Андрей Битов - Путешествие из России
Хлебников, вечный паломник, брел по степи со своим другом, и тот начал помирать. Хлебников не остановился помочь: «Степь отпоет…» – сказал он умирающему. И его самого отпела степь. Как отпела она, ледяная, и Цветаеву, и Мандельштама. Она же, скалистая, отпела и Пиросмани. Нет, тут не одна лишь наша неблагодарность! Тут что-то еще, не поймем что…
Великие изгнанники и скитальцы, у которых место рождения равно месту смерти… Кто они такие? Откуда взялись и куда ушли? Что это прочертило нашу земную жизнь, как небосвод?..
Я все стоял и стоял спиной к турбазе. Вардзия погружалась в ночь, как в молчание. Ничего там было уже не различить, но что-то все тяжелело и тяжелело во мраке – присутствовало. За спиной разгорались танцы. И музыка, и свет турбазы, бившие мне в спину, туда не достигали. Я стоял на границе того и другого. Вспыхнула и коротко пролетела звезда.
«Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся – так и тело ждет конца».
Руставели ушел в Иерусалим. Все они уходили в свой Иерусалим. И не возвращались. И когда я вглядывался в ночное молчание Вардзии, этого памятника людям-птицам, когда-то ее населявшим, и сам немел перед этой сверхмогилой истории и родины, то чем больше я верил в самого Руставели, тем меньше в его могилу. Не в то, что ее нет или что ее так и не нашли… А в само то, что он там, под камнем, есть. Его могила была здесь. Родина – его могила. Он – ее звезда.
Жизнь лишь беглое мгновенье.
К миру только отвращенье.
Мне с землей соединенье.
В ночь ведет меня тоска.
Поэты – одни и те же люди. Столетия спустя не знавший Руставели русский поэт повторит:
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.
Рассеянный свет
Памяти отца
Как нечаянно вверглись они в разорение! Уничтожились, погибли от ужасов.
Сколько раз мы вздохнули и охнули, выйдя на опушку, взойдя на гору, повернув за поворот и увидев море… Множество ли пейзажей и видов открывалось моему взору за бродячую мою жизнь? Нет. Не много. Чем больше я перемещался, тем меньше. Чем дальше я углублялся, тем больше видел пыль под ногами и стоптанные ботинки. Я брел по нерасчленимому уже лесу, выходил из некоего сада… пересекал горы, углублялся в чащу… я шел по словам из самого бедного словаря.
Я оставался при том, что имел. При токсовском дачном озере, пионерском финском соснячке, с видом на Петропавловскую крепость. Расстояние в полста километров между ними – несущественно, скрадено памятью; и будто все это друг у друга на фоне, совсем в одной местности. Теперь и это немало: озеро заросло, лесок облысел, вид на Неву высосан почтовыми открытками. Но это – мое. Кое-что сверх этого зацепил я описанием, сделал фактом своей… присвоил. Там, в рукописях, расположен некий армянский монастырь, грузинский городок, ташкентский базар… Я отметился, что что-то видел.
Навидавшись, я по-прежнему иду по улице, вхожу в дом, сажусь за стол – и улица вообще, и дом вообще, и стол вообще. Значит, не мое. Моего же – вот столько. Сколько есть. Хорошо, если столько, сколько было.
Я хочу это видеть. Я ничего больше не хочу. А то опять увижу…
Возвращаюсь из Москвы, везу анекдотец. «Шаху отрезали ногу…»
Как сядешь, так и слезешь… Если бы не вывеска, что это ЛЕНИНГРАД, – никакой разницы. Чья-то идеальная идея, чтобы Московский вокзал равнялся Ленинградскому: одинаковые перроны, одинаковые залы, по одинаковой клумбочке-могилке в начале и конце пути. «Червячок, а червячок?..»
Не выходя из вокзала, погружаюсь в метро: я все еще в Москве.
Выхожу на Петроградской и… наконец-то! дома! и все понятно. Радостно топчу землю. Причем именно землю, потому что сначала – сквер. Это кратчайший путь. Не могу сказать: узнаю, – знаю! И даже «вижу» – не могу сказать. Именно, что – НЕ вижу, а лишь убеждаюсь: на месте, все еще на месте…
Маршрут мой напоминает опыт Конрада Лоренца с землеройкой: этот недоразвитый зверек прокладывает свой путь лишь один раз, и если в этот первый раз ей поставить некое препятствие на пути, а потом его убрать, то она так и будет огибать его, уже не существующее, до конца дней. Сорок лет назад я переходил Карповку по деревянному мостику, а лет десять тому – метрах в пятидесяти – построили капитальный, каменный; некоторое время они еще оба стояли рядышком, и я все еще дохаживал по деревянненькому: он стремительно ветшал, сквозя провалившимися досками, поблескивая повытертыми до блеска шляпками гвоздей… потом – снесли. А я и сейчас, кратчайшим путем, выхожу сначала к нему, убеждаюсь, что его нет, и как бы ощупью добредаю до нового, совершаю крюк. Кратчайший путь теперь другой… Значит, я выразился достаточно точно, что НЕ вижу: чувствую я, а не вижу… чего я здесь не видел? Иду я, щурюсь, будто на солнце, вдыхаю, будто и воздух-то здесь другой, чуть ли не улыбка бродит по моему… Однако, взгляни я на себя со стороны, мог бы отметить, что иду я как бы отчасти бочком, несколько одноглазо, если можно так выразиться, и под ноги не смотрю.
Иду я так, что в поле моего зрения может попасть лишь то, что было и раньше, а раньше – значит, до меня. Если налево не смотреть, более или менее получается: Карповка. Ботанический сад… а там можно и налево голову повернуть – там мой дом: как стоял, так и стоит. Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними, а те, столетние, что вдоль Ботанического, давно попадали – все клонились, клонились с берега, тогда еще не гранитного, да и попадали… и решетка вокруг сада теперь другая. И под ногами, конечно, уже не плиты, и мостовая уже не булыжная – это все асфальт. Но дом мой – прежний, если слишком голову не задирать: наверху пропали скошенные окна мансарды, выпрямленные в лишний этаж… Но от моего дома вид уже не менялся на всем моем протяжении: тот же Электротехнический с башенкой, те же часы на башенке, и тот же двухсотлетний елизаветинский барак в углу Ботанического… И все это избирательное зрение дается без труда, без сознания, само собой – я все еще в прежнем, своем, неизмененном, неизменном пространстве, и времени никакого не прошло. И все ассоциации мои такие же заученные, как путь.
Как землеройка видит препятствие на пути, потому и огибает, так и я вижу сначала все того же человека в кальсонах, свесившего ноги с крыши семиэтажного дома, грозящего карабкающимся снизу пожарникам прыгнуть вниз, если они к нему приблизятся… вон я там, внизу, мне из-за спин не все видно… три часа длится эта осада… Вот сейчас, когда я миную то место, сердце мое привычно опустится, как тогда, когда, не дождавшись, повлекся я наконец домой, опасаясь нагоняя за опоздание, и тут же за спиной услыхал общий вскрик толпы и, обернувшись, увидел остановившееся навсегда в полете тело, бессонно-белое и как бы пустое…
А на том берегу Карповки, где больница, увижу я впереди слово «морг». Нет, на нем нет вывески… просто я всегда боялся смотреть в ту сторону и так и не знал, какое же из этих сумрачных строений «оно» (я думал о морге в среднем роде), поэтому там расположено именно слово… Наверное, потому я завел тогда с мамой, именно на том повороте с Карповки на Аптекарский, один примечательный разговор… Я тогда в первый класс ходил… мама меня не поняла тогда… а я и теперь, сколько бы ни проходил это место, все тот же вопрос ей задаю и опять не имею ответа: «Мам, а когда я умру, я совсем умру?» Мама спешит, нам надо успеть отоварить карточку, ей надо успеть меня покормить и бежать на вторую службу. «Я тебя не понимаю, о чем ты?» – «Ну, кем я был, когда меня не было? – спрашиваю я иначе. – Я ведь был…» Голос мой дрожит. Но мама так и не понимает, что если я был до, значит, могу быть и после.
С моими ужасными гландами мне надо поменьше разговаривать на морозе. Моя жизнь интересует мать именно в этом интервале от «до» до «после». Я каждый раз не плачу, огибая этот угол.
Я на Аптекарском. Карповка остается у меня за спиной; сад справа неизменно хорош, левый бок мой слеп – фабричная стена. До дома два шага; но и на этом расстоянии – отметина: худосочный дубок, с трудом набирающийся жизненных соков из-под заводской стены. Две неравноправных судьбы у деревьев: через улицу он наблюдает счастливую жизнь – там, за решеткой, в Ботаническом саду… Этому дубку спасли, однако, даже вот эту его, неудачную, жизнь. На нем было поселилась тля, и мой отец, пока он еще выходил на улицу, надолго задерживался около, собирая эту мерзость палочкой с каждого листика. Прохожие смотрели на старика удивленно – он не смущался, а если кто спросит, пояснял охотно и наставительно. До какой степени казалось мне это его занятие бессмысленным! Однако вот так, поодиночке, за лето отец тлю победил. Ага, вот он, недомерок!.. Ремесленник 45-го года. Однако листом крепок, тлей нет. Если обернусь, увижу отца: рукой он придерживает руку, чтобы она не опускалась, когда он дотягивается до очередного листика. Вид у него просветленно-сосредоточенный. Он и меня не заметил, как я прошел, и я его не окликнул. Там он остался, в заплечном пространстве, в том же, где никогда не упадет летящий в белом полотняном пузыре, где мне не ответят про «до» и «после».