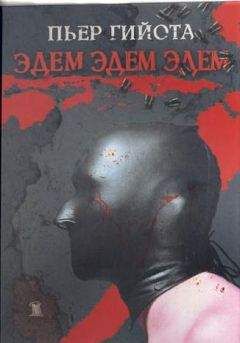Илья Бояшов - Эдем
Рай был полон.
А я – разбит вдребезги. Расколот. Рассыпан, словно кубики «лего», которые вытряхнул перед собой пятилетний конструктор, прежде чем затеять очередную торопливую сборку. У какого-то сверхунылого writer-японца[16] (впрочем, отыскать оптимиста-писателя в том солнцевосходящем краю у вас столько же шансов, сколько побеседовать с единорогом) персонаж-страдалец ежедневно тонул в песках – и ежедневно откапывался, лишь бы выжить. Я здесь, по уши в черноземе, так же страстно воюю с наступающей мокрицей. Запеленованный паутиной эдема, весь в поту и компосте, я ослеп ко всему остальному – сколько лет кануло в прошлое (служение, словно сиракузским серебряным рудникам, сияющему парадизу, борьба и с тлей, и с медведками), прежде чем отчаяние убралось со своего нагретого места, и царственно водрузилось там воспетое земским врачом-мизантропом Антошей Чехонте[17] отупение сахалинского каторжника.
Осужденный лет так на сто тридцать пять неизбежно приходит к подобному: отправляет в отставку рыдания.
И вот, слезы мои, словно Арал, уничтожены. Глаза обернулись безводными солончаками.
Возможно, и тухла на самом их дне, подобно умирающей лужице, какая-нибудь оставшаяся васильковая синь: не знаю, не ведаю…
Констатирую: случайным одним вечерком из зазеркалившегося болотца явились вдруг водоносу (совершенно ведь антинарциссически нагнулся я за упущенным ведром) ребра махатмы Ганди, болтающиеся на мослах таза порты и натурально толстовская борода.
Но то был уже не я, государи.
А местная фауна?
А установившийся, в конце концов, пусть и примитивный, но быт?!
Совсем позабыл! О, простите! Сделайте все поправки: на мой психоз, на безумие! Согласитесь, есть причина посыпать пеплом голову в первой части этой саги. И вообще, положа руку на сердце, джентльмены – кто из вас, попыхивающих сигариллами после очередного раблезианского ужина, уютно уместившихся там, за стеной, в электрическо-винно-мясном изобилии всемирного человейника[18], попадал в подобную западню? Впрочем, каюсь: от миксбордеров и бордюров вы уже порядком устали. А я все об одном – словно раввин на похоронах. Расписываю отчаяние сверхлюбопытного франта, пружинистого молодца, обнаружившего вдруг на пути своем бездну, наклонившегося над зияньем ее в ницшеанской надежде увидеть – и в эту самую глубь со всего размаху вдруг ухнувшего: без права на переписку.
Хватит траурных воплей – в конце концов, и в аду бывают воскресные дни. Чем-то надо разнообразить этот реквием. Ведь даже для обитателей замороженной Колымы расцветал вдруг праздник, когда, поскользнувшись перед их согбенным, безмолвным, словно тамошний лес, строем, лихо хряпался мордой в лед посиневший – бритье и паленая водка – толстогубый испитой вертухай.
Так вот: беспросветность иногда разжимала мое дрожащее горло.
Был и отдых.
И, ко всему прочему, привычка взяла свое.
Нет, нет, душа еще какое-то время сопротивлялась! Она еще пыталась раздвинуть прутья реберной клетки, стремясь выпорхнуть – к суши-барам, пати и раутам, карамелькам-моделям (которых не раз, словно сливочные тянучки, приходилось от себя отковыривать), теннисным кортам на благословенной Суматре. Простите, друзья, мою сверхнаивную душу! Снились ей и торги, и круизы, и нью-йоркские стриптизерши, пропитанные вызывающей независимостью, словно торт – коньяком. Но ведь тело привыкло! О, проклятое тело, по другим законам живущее!
Увы, мы свыкаемся слишком со многим: несуразным, нелепым (большевизм, советы доктора Хаббарда, симфониетта A-dur op 5 г-на Прокофьева). Привыкал ведь рано или поздно какой-нибудь сгорбленный краковский часовщик к наивысшим, после Петрарки и Шиллера, вершинам европейского гения – звездно-желтой нашлепке, бараку-фаланстеру и арийскому «halt»[19], доходчивому, словно ухмылка овчарки.
Лошади на рудниках (жестокосердное средневековье) в конце концов всем своим существом принимали круги Великого Брахмана. Конечно же, поначалу брыкались, но вот на очах их шоры, кнут делает дело, день-второй в темноте горной выемки – и рычаг-колесо начинает вытаскивать, одну за другой, корзины.
А строители шумерских храмов?
Возводители Вавилона?
Воздвигатели пирамид?
Бесконечные дяди Томы на полях Алабамы, поющие а капелла свои задушевные гимны-плачи, лиловыми пятками смиренно отбивающие ритм их?
В том-то и дело, благодетели вы мои!
Привыкали…
Я не рушусь более спиленным дубом. Плита мгновенного сна уже не накрывает меня. Мои бледно-мраморные прежде ляжки постоянная трусца по аллеям трансформировала в облитые непроходящим загаром окаменевшие жилы. Да, ходули истощились, но они закалены, как ноги гоплита[20] – сплошные мускульные переплетения, великолепный образчик для анатомических альбомов инопланетянина Леонардо да Винчи. Ботинки? Мир их праху! Фирма «Paul Smith»[21], спася от курупунии, продержалась не более года, и на илистом дне пруда остатки wonderful shoes[22] вздыхают о канувших в лету прогулках по осеннему Централ Парк. Отныне голые ступни мои преспокойно попирают колючки ядовитого пагмуса. Встреча с ползущей листрелой? Теперь не более чем неприятность! Стелящиеся по земле стебли невмона с их пираньими зубами? Препятствие легкое! Кожа подошв сделалась толста, как платформа «Dr. Martens»[23]. Своей тотальной бесчувственностью напоминает она санитаров домов престарелых. И вообще: словно плетью усердного нациста-гауптмана, вдоль и поперек отлупцована моя несчастная шкура бичом светила, которое не знает здесь уик-эндов, ободрана солнечной плеткой до подвяленного мясца, изрезана осокой и ветвями, измучена не менее отвратительными хоботками и жалами, но после всех ужасающих метаморфоз – это Брестская крепость.
Ничто ее уже не прокусывает.
Ничто не продувает.
Она одеревенела.
Надежнейший панцирь.
Одежда? Каким-то чудом обрывки продукции все того же блистательного «Paul Smith» еще не слезли – остатки покрытых моим собственным (очень обильным!) хлористым натрием рубашки и брюк липнут еще ко мне. Вечерами, перепугав водомерок – во все стороны брызжут эти нервные стрелы, – погружаясь в пруд по самые ноздри настоящим вьетнамским буйволом, я на себе стираю лохмотья, даже не удосужившись их скинуть.
Впрочем, бегать могу уже без одежды (а от кого скрывать причиндалы – от клеомы с настурцией?!).
Итак: не ожидал я уже от вечно лазоревых, подобных взгляду неаполитанских карманников, небес никакого «deus ex machina»[24]. Хотя время от времени взвивались протуберанцами мои капризы и бунты, я освоился.
Вечерами я отбрасывал в сторону мотыгу и тяпки и будоражил купанием пруд (плавунцы, водомерки, тритоны, недовольное лягушачье кваканье).
Набив свой живот свеклой и брюквой, обхватив руками колени, я таращился на левкои и пальмы – картонный, пустой до звона, словно Дума Гипербореи-Московии. Желудок – самое мое чуткое, самое капризное, самое брезгливое к «простонародному», с рождения привыкшее к пропеваемому ежедневным гимном в «файф о клок» le diner est servi[25], столь лелеемое мною, драгоценнейшее мое детище – не возражал теперь против плебейских бобов и стручков гороховых! И это после трюфелей по-провански, после живительных ручьев «бордо» и «мадам Клико», после «судачков порционных а-ля натюрель»! О, мой дворянский желудок – воистину, несчастнейший из снобов, растерявшийся в первый раз от заталкиваемого в него сырого картофеля, словно парижский аристократ от вида робеспьеровой гильотины (сейчас же, окончательно сломленный, смирившийся, брошенный на колени, наклоненный и изнасилованный, он безропотно год за годом переваривает эту преснятину, которая затем пополняет компост желто-зеленой жижей).
Да, фауна! Что я действительно все о кларкиях и гипсофилах! Болталось в деревьях (уже в самом начале повествования совсем не к добру упомянутое) павианье убогое стадце, чье амбре доставало не хуже запаха филомел.
Прохлаждались здесь две-три косули.
Совались под ноги осатаневшие от тотальной жары и скуки сурки и не менее верткие суслики.
Гигантов у деда не наблюдалось: хотя мог вполне уместиться за кактусом stenocereus thurberi и какой-нибудь сбрендивший лев, рядом с агнцем ублажающий утробу свою вечно сочной канадской травкой. Могли ведь, сообразно месту, бродить с не меньшим счастьем на мордах крокодилы-вегетарианцы, обколотые успокоительным носороги и добродушный айболитовский гиппопотам.
Впрочем, черт с ним, с гиппопотамом!
Выскочившая из тени гигантского водохлеба-бадана акула – и та меня особо бы не удивила.
Сам Бармалей – не напугал бы.
Крупные хищники в здешнем раю не водились: так, всякая мелкая разномастная тварь.
Но вот что касается твари!..
После первых своих «a hard day’s night»[26], вместе с прежними добродетелями навсегда потеряв удивление, я был настолько раздавлен, что человеческая речь в устах особо наглого кролика, одним вечерком имевшего честь наскочить на мои страдальческие ступни, не удостоилась даже ответного вздоха.