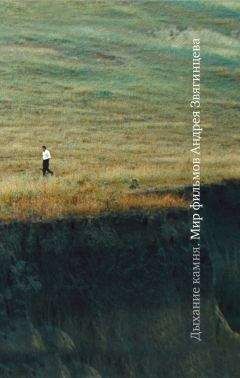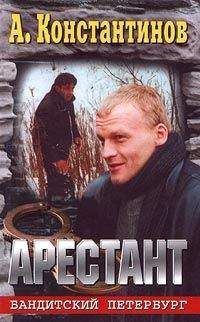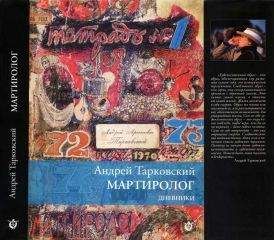Андрей Смирнов - Лопухи и лебеда
– Который? “Кот в сапогах”?
– Он самый…
Усмехнувшись, Татищев наливает водку:
– За маркиза Карабаса!
Пьер, смеясь, чокается с ним. Но старик становится еще угрюмей.
– Мы все равно чужие люди. Я ничего не могу тебе дать.
– Мне ничего не нужно.
– Зачем я тебе?
Пьер с удивлением смотрит на Татищева, растерянно пожимает плечами:
– Не знаю… Во время войны я пас коров на ферме. Мне было одиннадцать лет. Я хорошо помню… Жара. Коровы на лугу позванивают колокольцами. А я сижу на берегу, строгаю палку и воображаю, как я вас найду в России и мы будем говорить, говорить…
– Ты сказал, что вы живете в Париже…
– Отчима арестовали за участие в маки. И отправили в Равенсбрюк. Он был еще жив, когда в гестапо забрали маму. Я остался один. И ушел в Овернь, там жила сестра отчима.
– Что такое маки?
– По-русски как сказать… Подполье, вроде партизан. Прятали евреев, коммунистов. Помогали семьям арестованных… Диверсии устраивали. Конечно, связь с Лондоном, с генералом де Голлем, сведения передавали.
– Какие сведения?
– Отчим работал на химических заводах, которые исполняли заказы вермахта. Сообщали координаты заводов, англичане их бомбили.
– И как ты жил без матери?
– Голодал. Милостыню просил. Работал на ферме. А потом вернулась мама…
– Что за человек был отчим?
– Дюран? Очень добрый человек, жутко нервный. Он меня никогда не наказывал. Если я нашалил, разбил что-нибудь или ключи потерял, только посмотрит так печально, покачает головой. И ни слова… Мама вышла за него, когда мне было пять лет. Он меня усыновил, дал свою фамилию. Конечно, это облегчило мне жизнь в лицее… Но мама все равно твердила: “Помни, ты – русский дворянин!”
– Кто же ты в результате?
– Здесь, в России, я чувствую себя французом…
– Никакой России давно нет на свете. Это – эсэсэр, прости господи…
Плеснув водки в стакан, Пьер задумчиво цедит ее маленькими глотками. Татищев усмехается:
– Водку ты пьешь как француз…
– Я думал, вы обрадуетесь, когда узнаете, что у вас есть сын…
Старик сидит нахохлившись, уставясь в пространство.
– Я из этой жизни давно выпал. И обратно уже не хочу…
Он достает папиросы, закуривает.
– Здесь можно курить? – обрадовался Пьер, достал сигареты.
Старик словно не слышит.
– Ничего не хочу знать… – говорит он отчужденно, почти враждебно. – У меня было два инсульта. Один еще на зоне, другой – сразу после освобождения. Левую сторону парализовало. Речь отнялась. Ходить пришлось заново учиться. Странным образом все забыл, кроме математики…
Гримаса боли пробегает по его лицу, он вскакивает и делает несколько поспешных шагов.
– Вам нехорошо?
– Ерунда, сейчас пройдет… – Постояв, он усаживается, растирает ногу. – Я жил одной ненавистью. Выжить, выйти и отомстить этим сукам, генералам от параши… Не важно как – только отомстить. Когда корейская война началась, мы мечтали, чтобы Трумэн атомную бомбу сбросил на нас.
А теперь мы сидим на Лубянке
И лелеем надежду одну,
Чтобы наши спасители янки
Развязали скорее войну…
Вся Колыма эту песенку знала. Мы были готовы в этом грибе сгореть – лишь бы псарню прихватить с собой…
– Ужасно…
– Да ведь это сколько трудов надо положить, чтобы довести человека до такого…
Он проводит рукой по лицу, морщится. Берется за бутылку, наливает.
– А после второго инсульта понял – мне не суждено, моя песенка спета. Вразумил господь…
– Вы их простили?
Холодная усмешка проступает в морщинах старика, он опускает голову:
– Никогда… Они свое еще получат. А может, и нет, кто его знает… Но меня это больше не касается.
– Вы же еще не старый, вам шестидесяти нет… Я бы увез вас во Францию, мы бы вас подлечили…
– Бог с тобой, кто же меня выпустит? Занавес-то и впрямь железный. Мне дорога одна…
Пьер размышляет:
– Я понимаю, вы… Как это по-русски? Хлебнули лиха. Но… есть у вас сын или нет – вам все равно?
– В моей жизни это ничего изменить не может.
Помедлив, Пьер встает, подхватывает куртку и идет к двери. На лице старика не отражается ничего.
– Уйдешь – с концами…
Пьер застывает на пороге.
– Извини, тут до Парижа далёко…
Пьер мрачнеет и, поколебавшись, возвращается к столу. Старик поднимает стакан:
– Со знакомством, Петр Алексеич!
Пьер расплывается в улыбке. Они чокаются.
– Ваше здоровье, Граф!
Поглядывая друг на друга, они молча едят.
– А пожалуй, ты в нашу породу пошел, – говорит Татищев. – Ты похож на моего отца. Челюсть, разрез глаз – точно папенька. По мне не суди, я – развалина, и потом, я в маму. А те яркие были люди, Татищевы…
– Бабушка, дедушка – что-то теплое, детское… Я же никого из них не видел! От маминой родни хоть фотокарточки остались. А от вас – только мамины рассказы и фото на пляже…
Старик усмехается и, подняв взгляд к потолку, декламирует:
В красивое время,
Когда опасались
Грешить слишком много,
И черта боялись,
И верили в Бога —
Слова были твёрды,
Друзья были честны,
Все рыцари горды,
Все дамы прелестны…
– Но ведь так не бывает… – говорит Пьер.
– Не бывает. И не все рыцари, и не все дамы… Это офицерские стихи. Я их в первый раз услышал в лагере на Вишере. Какой-нибудь бывший юнкер сочинил или кадет. Он так чувствовал… А хотел бы я поглядеть, кто напишет в таком роде про нынешние времена…
– Но были же в России бедные и голодные?
– Я вижу, ты левый… Конечно, были и бедные, и голодные. Как везде. А что, во Франции их нет? Только это была приличная страна, богатая, ни на кого не похожая… не нынешний колхоз нищих за колючей проволокой…
В дверь просовывает голову Анна Федоровна:
– Батюшки, вы здесь курите? Меня ж уволят!
– Проветришь. Иди выпей с нами.
– Да какой там! Эти ярославские никак не уедут, холеры, обедали три часа… Дядь Леш, ты чего?
– Не трогай нас, Нюра. У нас серьезный разговор.
С сокрушенным видом она прикрывает за собой дверь.
– Ты в церковь ходишь?
– Я член французской компартии.
Старик застывает с бутылкой в руке.
– Мой сын – коммунист… Бесподобное чувство юмора у Господа! Абсолютно безжалостное… – Он ухмыляется. – Не беда, ты молодой. Голова на плечах – разберешься…
Пьер задумчиво смотрит на него:
– Какое чудо, что вы живы…
– Как ни странно, математика помогла. На Колыме люди давали дубаря через пару месяцев. Шахта, мороз в пятьдесят градусов и вечный голод превращают тебя в быдло, мозги отмирают… Я уже доходил на общих, но мне удалось устроиться санитаром в больницу. Там умирал один человек… Беленький Марк Исакович, физик-теоретик. И недурной математик, хотя и своеобразный. Мы разговаривали ночами, и беседа с ним была весьма поучительна. Он умер от пеллагры. Благодаря ему одно дело я все-таки довел до ума…
Старик кладет на колени сидор и копается в нем. Он что-то бурчит себе под нос, на лице его тревога. Наконец он достает газетный сверток, взгляд его проясняется. Он разворачивает газету, развязывает шнурок и вынимает из презерватива пачку бумажных листков величиной с игральную карту, перевязанных аптечной резинкой. У него заметно дрожат руки.
– Помру – вот все мое наследство…
– Можно посмотреть?
Поколебавшись, старик снимает резинку и протягивает ему листки:
– Только аккуратно, там определенная последовательность…
Пьер бережно раскладывает разномастные листки – оберточный пергамент, тетрадь в клетку, кусок картона. Все они исписаны до краев то карандашом, то чернилами мелким твердым почерком.
Пьер показывает старику медицинский рецепт, на обороте которого виден тот же почерк.
– Речь идет о теореме Гёделя?
– Верно…
Татищев забирает листки, ловко их складывает и прячет.
– Дело в том, что все существующие доказательства бытия Божия суть не доказательства, а общие рассуждения. Даже у Паскаля. Нужны строго математические доказательства. И я таковое получил…
– То есть вы с помощью математики доказываете, что Бог есть?
– Только мое доказательство основано на математике современной. На анализе объективно существующих парадоксов теории множеств – таких как парадокс Бертрана Рассела об экстраординарных множествах, а также на феномене существования алгоритмически неразрешимых проблем, скажем, в чистой алгебре… И частично, как ты верно заметил, на известной теореме Гёделя о неполноте…
Пьер с озадаченным видом слушает его и вдруг тихо смеется.
– А вы говорите – России давно нет… – Плеснув водки старику, Пьер восторженно говорит: – За вас, папенька!
Татищев пьет и с любопытством наблюдает за ним.
– Представить себе – кто-то на каторге, в холоде и голоде, по ночам вычисляет, есть Бог или нет… Нормальный человек бы рехнулся! Я сразу слышу мамин капризный голос: “Ты – русский дворянин! Ты – Татищев!”