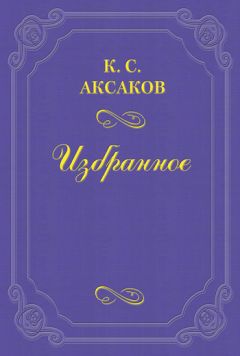Александр Яблонский - Абраша
Есть он не мог, да и не хотел. Иногда с удовольствием жевал моченую морошку, и жадно пил ледяной брусничный рассол или клюквенный морс.
Он лежал на спине, а когда уставал, Настя с бабкой пелагией, у которой он квартировал последние полгода, переворачивали его на бок, и каждый раз, уставая от непростого, как оказалось, этого дела, он удовлетворенно прислушивался к новому положению тела, к ощущениям отдыхающих его членов, и все эти такие простые действа, такие, наверное, привычные события ощущались им с особой остротой и новизной. Настя забегала часто, но нена́долго. И была она уже не разбитна и бесстыдна, а заботлива и тиха. Ласково поглаживала прохладной сухой ладонью его лоб, протирала платком вспотевшую внезапно впавшую грудь, острые ключицы, плечи, и эти прикосновения он ждал целый день. Но самыми чудными мгновениями были те мгновения, когда бабка пелагия, повернув вместе с Настей его на бок, держала в таком положении, а Настя обмывала его, насухо вытирала, а затем сильными пальцами начинала мять его спину, сбирая в жменю тонкую кожу, сильно сжимая и, затем, резко отпуская её, прощупывать каждый выпуклый позвонок, перебирать каждое просвечивающее сквозь серый тонкий пергамент ребрышко, а потом мягко проводила ладонями вдоль хребта, как он когда-то, раскладывая ответчика. И чувствовал он, как кровь приливает к измученной долгим лежанием спине, и оживает омертвелая плоть, согревается стынущее тело. Затем его тепло укрывали и тихонечко на цыпочках уходили, а он сладко засыпал, приговаривая в полусне: «Храни вас Господь… Храни…»
Проваливаясь в забытье, он боялся увидеть плохие сны. Не хотел он вспоминать свою жизнь, страшно ему было видеть во сне то, что было буднично и привычно наяву, в его каждодневном существовании. И, Слава всевышнему, не видел он ни жаровни с игривыми голубоватыми углями, ни розовеющие раскаленные щипцы для выламывания ребер, ни дыбу с шерстяным хомутом; не видел он кабинет – министра Артемия Петровича волынского, с вырванным языком и разорванным до ушей ртом – бывший свидетелем на розыске действительный тайный советник Нарышкин Александр Львович, президент Камер-коллегии и директор артиллерийской конторы, аж расплакался от ужаса – рот Прошка – малолетка рвал, переусердствовал по неопытности; не видел он архимандрита Иосафа Маевского, причастника Феофилакта Лопатинского, когда тот Иосаф – грузный старый отекший – по спицам вожен был на «плясовой» – площади у Комендантского дома с заостренными деревянными спицами, в землю вкопанными. Не видел он ни Авдотью Малафееву, жжением огненными вениками подвергнутую – с ума горемычная от боли спятила, ни Ваську Лося, ни Мартинку Кузьмина, клещами жженого многажды тоже до обезумения… Никого из пытанных не видел, а видел отца своего – Никиту Акимова, видел двор – солнечный просторный, куры бегают, видел подсолнухи, что в теплом углу росли, мостки на Яузе видел: вода играет серебряными блестками, купаться манит. Он очень хотел увидеть мать свою – Антонину Тихонову, но она к нему во сне не приходила. Может, обижена была, иль забыла. Да, навряд ли: любила она Андрошечку более других детей. Как он помнил её, она все время плакала, вернее, не плакала, а слезы у нее бесшумно текли, что бы она ни делала, а была она всегда при деле, не осталось в памяти: она присела аль прислонилась, лишь на коленях у икон замирала, да и то ненадолго. Икон в доме было много, молились родители истово.
Отец его – Никита Акимов сын – силой был наделен чрезвычайной: кочергу гнул, посмеиваясь, подкову пальцами своими жилистыми вмиг распрямлял, бычка молодого поднимал в подпитии, на спор. И ростом вышел отменно: уж на что Андрон высок – двенадцати вершков, но батя на полголовы выше был. За силу, ловкость, умения сам Князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский его уважал, на пасху Светлую – воскресение Христово и в Рождество Христово рупь серебряный дарил и чарку подносил собственноручно. В строгости держал семью Никита, особенно сына своего старшего – Андрона, наследника и преемника, но никогда не бил. Один случай помнил Андрон и часто видел его во сне. Совсем мальцом был он – лет шести, не более. Воскресенье майское на дворе стояло, и матушка к отцу с просьбой, чтобы курицу в ощип ей подал – глаза у неё были сухие, и редкая улыбка озаряла бледное вытянутое лицо её. отец кликнул Андрона – подсоби! Андрюша радостно выбежал ловить курицу, а ловить-то было и не надобно: он каждое утро зерно им сыпал, так что они сами к нему бежали, дурехи. Он подхватил пеструху, подал отцу, и тот схватил её за голову и стал над собой быстро крутить – Андрон никогда такого не видел, и вдруг голова куриная у него в руке осталась, а курица – без головы! – вспорхнула и – на землю, и – без головы, – суматошно крыльями размахивая, припустила по двору, кровь из шеи фонтаном хлещет, а она – без головы! – по двору мечется, в разные стороны тыкается… тут Андрон и грохнулся наземь, чуть затылком об чурбак не долбанулся, миловал Господь. Однако отец даже на горох не поставил, не то что высек – лишь смотрел грустно, подперев подбородок кулаком и приговаривая: «Как же ремесло своё тебе передавать буду, как же…» – передал! Настоящим кнутмейстером стал Андрон, почти таким же, как батя.
Ещё видел во сне Андрон высокое звездное небо, на которое он никогда в жизни земной не взглянул: в детстве не до того было, много забот малолетних имелось: козу пасти, корову доить вместе с матушкой, дрова колоть, кур кормить и четыре часа в день чучело стегать сначала игрушечным, а затем и настоящим кнутом – руку набивать, полосы аккуратно класть, силу растить, привычку к удару по живому телу вырабатывать, ну а потом и вовсе не до неба было – Андрон из пыточной почти не выходил, а ежели и выходил, то прямо, не глядя на небеса, в кабак иль к Настехе, иль спать тяжелым прерывистым сном с кошмарами и болью сердечной.
Ни Ушакова, ни Прошку, его подельщика, а ныне и сменщика, не видел во сне Андрон, но два раза видел он того капитан-поручика, кто в жидовский закон якобы перешел, и видел так отчетливо, как будто то не во сне, а наяву было: даже цвет лица его углядел, хотя во сне – он это знал – цвет и не различишь никогда. И видел именно то утро 15 июля, когда сожжены были и соблазнитель, и от веры отступник. Кричал глашатай громогласно, чтобы всякого чина люди для смотрения той экзекуции сходились к новому Гостиному Двору, что на адмиралтейском острове, поутру с восьмого часа. И было утро прозрачно, ясно, ласково. Сруб получился легкий, крытый. Андрон выходной имел, но, сам не зная, почему, встал рано, надел чистое и пришел. Увидел Андрея Ивановича, благодетеля, и удивился: не было нужды Начальнику Канцелярии при экзекуции присутствовать – розыск закончился, теперь дело за катом, – и не присутствовал обычно Ушаков, а ныне пришел. Стоял неподвижно, глядя прямо перед собой, и взгляд его был, как у слепца, который смотрит пристально, но ничего не видит. Андрон не помнил – и во сне не видел, как привели обоих, только осталось в памяти: конвой сенатской роты печатает шаг, искры из булыжника высекая, меж ними старик Борох, весь белый как снег стал, еле идет, губы шепчут что-то непонятное – «адонай…», кажись, – пальцы рук по пуговицам кафтана бегают – кафтан, ясно дело, потом с него сдернули, в одной нательной рубахе в сруб втолкнули, а там к столбу привязали, – и капитан что-то ему говорит: крепись, мол, Борох, не торопись, а сам всё оглядывается, всё ждет чего-то, только потом Андрон понял: милования ждал, надеялся до последней секунды, что не может того случиться, чтоб в огне Богу душу отдать – за что! потом соломой входное отверстие завалили и подожгли.
Ушаков, и впрямь, глядя прямо перед собой, ничего не видел: ни еле передвигающего ноги согбенного Лейбова с трясущейся лопатой белой бороды, печатью ужаса на лице и тонкими струйками, сбегающими из прозрачных глаз, ни Возницына с детским растерянным лицом, поминутно бросающего на него – Ушакова – взгляды с надеждой невысказанной, ни молодцеватых конвойных из сенатской роты – эких богатырей-красавцев набрали, все не менее десяти вершков, галуны сверкают, лица розовые, сытые, на осужденных стараются не смотреть, – ни теплого июльского утра, ни батюшку – бороденка реденькая, зазеленевшая, глазки лукавые, нос в багровых прожилках, пьет, небось, шельма, – поднес крест к губам капитана, тот поцеловал, и опять – взгляд ищущий… Ничего этого не видел всесильный Начальник Канцелярии тайных Розыскных дел, но знал он, что давеча сам, собственноручно проверил, чтобы крыша у сруба была приделана знатно, и плотно чтобы щели были законопачены, и берестой, паклей смоленой, ветошью и прочим горючим барахлом забит сруб был бы туго. Как всё это займется, дым такой внутри будет – без выхода в воздух окружающий, что чрез 2–3 вздоха легкие преступников дымом угарным забьются, и потеряют они свой разум, и ничего более чувствовать не будут – ни боли адской, ни ужаса животного, ни изумления непреходящего. Ушаков сделал уставной разворот кругом – марш и покинул поляну меж Морским рынком и новым Гостиным Двором.