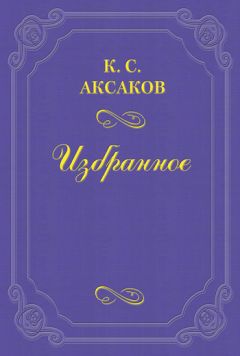Александр Яблонский - Абраша
8. Ты : Поразительно, что Павел, как никакой другой русский Император пользовался любовью простолюдина, сиречь – народа.
Я : Согласен! Кажется Брюлль – посланник Пруссии – писал, что Павлом недовольны все, кроме солдат, крестьян и городской черни, а это, как ты понимаешь, процентов 80 из 36-миллионного населения России. Австрийский посланник Лобкович еще до воцарения Павла, в середине 70-х писал, что П. – «кумир своего народа», а Андрей Разумовский как-то сказал Павлу: «Если бы Ваше Высочество захотело!» – имея в виду возможное низложение Екатерины – ненавистной матушки Наследника. Действительно, за Павлом бы пошли, не задумываясь. М. Фонвизин писал о любви к Павлу «простого народа». И т. д. Именно это так неожиданно сближает его с… Отрепьевым (и не только с Отрепьевым). О Гришке вспомнил случайно – в связи с «моей» Маргаритой. Но вдумываюсь и нахожу всё больше глубинных аналогий не в их реальных судьбах, а в судьбах их бытования в общественном сознании, в нашей истории. Говоря же о Павле, подчеркну, что именно такое отношение к нему простого люда, солдат, особенно моряков, является причиной молчания о нем сегодня. Не укладывается он в прокрустово ложе советской схемы: не похож он на угнетателя простого народа, крепостника, защитника помещика и пр. галиматьи…»
«Стоп! Вот отсюда поподробнее ». Трамвай продребезжал по Литейному. Вырванный из многоголосья суетливого дня, неожиданный грохот этого запоздалого путника дробно прокатился по спящему пустынному городу.
* * *Собака была большая, лохматая, грязная. Она стояла чуть поодаль, не приближаясь и не отдаляясь. Взгляд был усталый, внимательный, доброжелательный, недоверчивый. Кончик напряженного хвоста чуть помахивал, как бы говоря: «ну-ну, посмотрим…»
– Ну, давай познакомимся.
– Зачем? – вопросительно шевельнулся кончик хвоста.
– Так ты – один, и я – один, вместе будет веселее.
– Кому?
– Нам с тобой. И кончай выпендриваться. Пошли ко мне домой.
– А мне и здесь хорошо.
– Не хочешь?
Хвост напрягся в задумчивости и опустился, то ли соглашаясь, то ли в испуге, что судьба, улыбнувшись на секунду, сейчас отвернется от нее.
– Пойдем, я тебя вымою, расчешу, как следует.
– А как насчет жрачки?
– Что у тебя за выражения? И накормлю как следует. Ты, наверное, давно уже не обедал по-человечески?
– Да я и по-собачьи давно не обедал.
– Давай, решай скорее!
В собаке явно происходила яростная борьба между врожденной доброжелательностью и желанием отведать настоящей жизни, с одной стороны, и горьким жизненным опытом, с другой.
– Что-то ты больно сладко поёшь…
– Во-первых, я тебе не певец, чтобы петь…
– Хорошо, прости…
– А во-вторых, если не понравится, уйдешь.
– Или ты выгонишь, когда надоем. Знаю я вас: побалуетесь и на помойку. А мне потом опять заново авторитет завоевывать, это стоит не одного сломанного ребра, прокусанного уха и вырванного клока шерсти. У меня и так ее мало осталось.
– Да не бзди ты…
– Ну вот и ты туда же… Помойка, а не речь…
– Прости, вырвалось. Задолбал ты меня своим недоверием.
– Жизнь учит. Она штука сложная.
– Это ты прав, дружок мой. Ты же мой дружок. Никуда я тебя не выгоню.
– Прямо не знаю…
Кончик хвоста осмелел и приподнялся, его белая кисточка начала приветливо помахивать, как бы отгоняя последние тени сомнения и недоверия.
– Слушай, с кем я только не беседовал: и с дворником, и с двумя старыми сплетницами с нашего двора, и с управдомом, и с начальством, и с подчиненными, и… и с сыночком моим мы всё время беседовали. Он у меня хорошим мальчиком был: умным, ласковым, внимательным… С кем я только не беседовал, а вот с собачьим хвостом – никогда! С товарищем Сталиным беседовал… Что ты смотришь?
Уши собаки приподнялись и напряглись, голова склонилась набок, глаза удивленно округлились.
– Не веришь?
– А ты сам-то себе веришь? Ишь хватил: с товарищем Сталиным он беседовал! О чем же вы толковали?
– Первый раз – о товарище Жукове Георгии Константиновиче. Я и говорю ему: «Иосиф Виссарионович! Что же Вы товарища Жукова в Одессу ссылаете. Он же не Пушкин, чтобы в Одессу. Такой боевой маршал!». А он мне: «Ты, Захар, – говорит, – плохо ситуацию понимаешь». – «Так как же плохо? Я всю войну прошёл. И на Втором Украинском был, и на Первом Белорусском. У нас такая примета была – точная примета – ежели на фронт поставили маршала Жукова или Рокоссовского, будет наступление. Причем, успешное. Товарищ Рокоссовский, конечно, посимпатичнее был. Он тоже много людей зря положил, но не так, как товарищ Жуков. Товарищ Жуков – он врага просто трупами заваливал. Но – побеждал. Другие тоже заваливали, но победы просерали, прошу простить за грубое слово. Как ваш любимчик Еременко, тот еще душегуб был, любитель обещаниями вас кормить». – «За грубое слово прощу, а вот кого мне любить, а кого нет, мне решать. Будешь лезть не в свое дело, быстро пойдешь червей кормить». – «Знаю я». – «Знаешь, так держи язык на привязи». – Прямой человек был товарищ Сталин. Прямой, но справедливый. – «А вот Жукова я в Одессу отправляю не в ссылку, а спасти его хочу. Тут мои мóлодцы задумали отправить его вслед за его начштаба Телегиным и… этим, как его, ну мужем певицы Руслановой. Но я сказал: Лаврентий, ты Жукова не тронь и этому Абакумову скажи – ни-ни». – «Так за что же, товарищ Сталин? Ведь и Телегин был боевым генералом, и Крюков – муж нашей любимой певицы?» – «Да, воевали-то они хорошо, слов нет. А ты мне скажи, Захар, ты в каком чине войну закончил? – «Майором». – «Майором. Это хорошо. А что ты, майор, из Германии на память привез?» – «Приемник, “Грюндиг” называется и альбом с картинками». – «С какими картинками? С девочками?» – «Да нет, товарищ Сталин. Там репродукции старинных картин. Я их люблю разглядывать. Рафаэль там, Тициан, ну, Рембрандт, конечно». – «А что же ты не привез себе мотоцикл или велосипед. Я разрешил: генералам по “Мерседесу” или “Опелю”, а офицерам – мотоциклы…» – «Так я водить не умею». – «Не умею, не умею… Научился бы. И часы мог привезти, и охотничье ружье, и ковры, и сервизы – за копейки продавали… А твой товарищ Жуков эшелон приволок: 200 штук мебели из карельской березы, ореха и красного дерева, как мне Лаврентий докладывал, хапнул, а тысячи метров шелка… Что он солдатам шелковые портянки шить собирался? А сотни шкурок обезьян, соболей и норки – он что, блядь, собирался их на ушанки пустить?! А гобелены и картины – пол-Эрмитажа можно ими обставить! Все они, бляди, оборзели, мать их! 60 тысяч роялей притащили – пианисты сраные!» – «Да не нервничайте, пожалуйста, Иосиф Виссарионович». – «Я тебе не Иосиф Виссарионович. Я тебе товарищ Сталин. Ладно, иди, утомил ты меня. А твоего Жукова я еще дальше ушлю. За Урал… И в наказание, и во спасение». Я хотел пожелать ему спокойной ночи, но тут сам проснулся…
– Ну, ты мужик даешь!
– Ладно. Чего уши развесил? Пошли. Как звать-то тебя?
– Ты что сдурел? Как я тебе скажу? – хвост возмущенно напрягся.
– Ты прав. Ладно. Ты же мой дружок. Любимый дружок. А назову я тебя Родиком. Хорошо? Родик ты мой, родной ты мой мальчик, дружочек… Идем домой.
……………………………………
Далеко-далеко внизу, на Земле двигались двое. Человек и собака. Их было почти не рассмотреть. Иногда вьюжная круговерть скрывала их маленькие фигурки, но когда рассеивалось, было видно, как человек слегка размахивает руками, что-то рассказывая, собака же внимательного поглядывает, задирая голову кверху, слушая, видимо… Казалось, светлая гармония, сострадание и покой навсегда поселились в этом маленьком заснеженном мире.
...Конец второй части
Андрон умирал тихо, спокойно, ясно. Он вмиг исхудал, пожелтел лицом, руки потеряли силу, голубые ручейки пульсирующих прожилок, избороздивших их прозрачную кожу, вдруг выступили наружу и приковывали к себе его пристальный взгляд. Андрон разглядывал свои руки, и это было ему интересно и внове, и внове было удовольствие, с которым он вдыхал сырой осенний, наполненный ароматом прелых листьев воздух, сизыми клубами вкатывающийся в открытые окна, как будто это было впервые в его не такой уж короткой жизни. И прихотливые линии кружений оранжевых, красноватых, охровых, ярко-желтых листьев клена, ясеня, тополя и березы, неторопливо скользивших за окном, завораживая многоголосным мерным плавным ритмом, казались неким светлым открытием, и это составляло счастие его последних дней. Иногда опавший лист заносило дуновением ветра к нему в комнату, и он радовался ему, как дорогому, долгожданному гостю.
Есть он не мог, да и не хотел. Иногда с удовольствием жевал моченую морошку, и жадно пил ледяной брусничный рассол или клюквенный морс.
Он лежал на спине, а когда уставал, Настя с бабкой пелагией, у которой он квартировал последние полгода, переворачивали его на бок, и каждый раз, уставая от непростого, как оказалось, этого дела, он удовлетворенно прислушивался к новому положению тела, к ощущениям отдыхающих его членов, и все эти такие простые действа, такие, наверное, привычные события ощущались им с особой остротой и новизной. Настя забегала часто, но нена́долго. И была она уже не разбитна и бесстыдна, а заботлива и тиха. Ласково поглаживала прохладной сухой ладонью его лоб, протирала платком вспотевшую внезапно впавшую грудь, острые ключицы, плечи, и эти прикосновения он ждал целый день. Но самыми чудными мгновениями были те мгновения, когда бабка пелагия, повернув вместе с Настей его на бок, держала в таком положении, а Настя обмывала его, насухо вытирала, а затем сильными пальцами начинала мять его спину, сбирая в жменю тонкую кожу, сильно сжимая и, затем, резко отпуская её, прощупывать каждый выпуклый позвонок, перебирать каждое просвечивающее сквозь серый тонкий пергамент ребрышко, а потом мягко проводила ладонями вдоль хребта, как он когда-то, раскладывая ответчика. И чувствовал он, как кровь приливает к измученной долгим лежанием спине, и оживает омертвелая плоть, согревается стынущее тело. Затем его тепло укрывали и тихонечко на цыпочках уходили, а он сладко засыпал, приговаривая в полусне: «Храни вас Господь… Храни…»