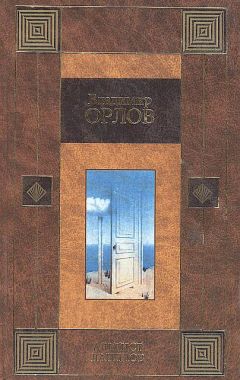Александр Проханов - Время золотое
«Вы верите их речам? Вас убаюкали их заверения? Вы слышали их ядовитые слова в адрес Чегоданова? Но вот послушайте, что они говорят сами о себе!»
Немврозов отступил, и его место на экране занял Мумакин, стоящий на трибуне у микрофона. Его энергичные губы шевелились, из них летел пар, и он возмущенно изрекал:
«Вы хотите, чтобы я встал под одни знамена с Лангустовым, чью задницу не пропускает ни один негр? Хотите, чтобы я стоял рядом с Шахесом, от которого будет пахнуть чесноком на всю Болотную? Или с этой, прости господи, Ягайло, у которой под юбкой ползают мухи?»
Монтаж изображения и звука был осуществлен столь искусно, что создавалось полное впечатление того, будто бы эту хулу Мумакин возводил на своих сотоварищей прямо на митинге, перед стотысячной толпой.
– Я не говорил такого! – взревел Мумакин, указывая на экран. – Это фальшивка ФСБ!
– Сволочь ты, Мумакин, – беспощадно произнес Лангустов. – Был предателем и остался! Красный иуда!
– Антисемит! – щебетал Шахес, превращая свои маленькие пальчики в заостренные коготки. – Коммунофашист! Нерукопожатный!
– При чем здесь мухи? – нервно улыбалась Паола. – Нет, Мумакин, вы можете мне объяснить, при чем здесь мухи?!
На экране стискивал микрофон Лангустов, в мерцании вспышек, под окулярами телекамер:
«Вы хотите, чтобы я встал рядом с этим претенциозным самозванцем Градобоевым, который вскормлен на деньги ЦРУ? Может, вы пригласите меня встать рядом с этим коммунистическим пельменем Мумакиным? Или вислозадой куртизанкой Ягайло? Или с Шахесом, с этой рыбой фиш в чесночном соусе? С этими мелкими жуликами, смешными паяцами, колченогими карликами, которые на американские деньги имитируют русскую революцию?»
Эта тирада вызвала взрыв за столом.
– Ты, старый жопошник! – Градобоев замахнулся на Лангустова кулаком. – Это ты называешь меня агентом ЦРУ, ты, который живет на американские транши, работает сразу на три разведки, совращает маленьких мальчиков?
– Извращенец! – ревел Мумакин. – Рваный педик! Провокатор! Тебя выкидывают через дверь, а ты лезешь в окно! Тебя вышвыривают через парадный подъезд, а ты пролезаешь через задний проход! Задний проход! Задний проход!
– Где ты видел у меня вислый зад? – Паола вскочила, задрала юбку и повернулась к Лангустову спиной. – Где вислый зад? Где? Ну где?
Оскорбленный Шахес трещал, как дрозд, щебетал, как клест, чирикал, как воробей, но в этом птичьем хоре можно было разобрать только одно слово: «педофил».
На экране возник Шахес, укутанный в шубу. Он уткнул в микрофон свое чуткое рыльце, и теперь его слова были вполне различимы:
«Вы хотите, чтобы я оказался рядом с Градобоевым, который публично заявил, что не верит в подлинность дневника Анны Франк? Чтобы я встал рядом с этой коммунистической деревенщиной Мумакиным, который заявил, что в окружении Ленина было слишком много евреев? Чтобы я встал с этим гомосексуалистом Лангустовым, чей флаг немногим отличается от флага Третьего рейха? Чтобы меня, доктора юридических наук, почетного профессора Иерусалимского университета, окружал весь этот сброд?»
Все за столом молчали, когда Коростылев, в черном облачении, под хоругвями и имперскими флагами, обращался к своим соратникам:
«Вы думаете, в священных кремлевских палатах найдется место этому фальшивомонетчику Градобоеву, которого вывели в колбе ЦРУ и которого после смерти похоронят на Арлингтонском кладбище? Или этому ленинцу Мумакину, на фирменном пиджаке которого засохла кровь убиенного Государя Императора и невинных царевен? Или этому певцу мужеложства Лангустову, которого застали в объятиях большого фиолетового негра на берегу Гудзона? Или этому еврейскому провизору Шахесу, внучатому племяннику начальника КАРЛАГа, который обливал на морозе водой русских профессоров и поэтов? Им место не в Кремле, а на виселице или у расстрельной стенки».
За столом началось невообразимое. Все вскочили, кричали, кидались один на другого. Градобоев стискивал хрипящее горло Коростылева. Шахес, как свирепая такса, повис на Градобоеве. Паола Ягайло норовила оцарапать лицо Лангустова, шипя, как злобная кошка. А Лангустов, раздирая на Паоле блузку, умудрялся больно пнуть Мумакина.
Все грохотало, сыпалось, клубком выкатывалось в прихожую, разбирало шубы и выносилось вон из штаба, в туманную Москву, где гремели падающие сосульки, брызгала черная жижа из-под колес, и во мгле, над туманными крышами, горели рекламы «ИКЕЯ», «ХОНДА», «САМСУНГ». Казалось, над Москвой плывут ядовитые радужные рыбы.
ГЛАВА 32
Бекетов пришел на Октябрьскую площадь, откуда начинался «Марш миллионов». Нежное апрельское небо дышало целомудренной лазурью, асфальт был покрыт голубым влажным лаком, липы проснулись, и в голых рогатых кронах трепетал прозрачный туман. По Ленинскому проспекту летела, блистала, переливалась шелковистая лента. Из туннеля выплескивался на Садовую и мчался к Крымскому мосту шелестящий поток. Памятник Ленину, окруженный революционными солдатами и рабочими, был монументален и строг, но голубь, сидевший на голове вождя, нарушал воинственный пафос монумента.
Бекетов явился на площадь, когда начинала собираться толпа. Люди струйками сочились из выходов метро, всплывали из подземных переходов, вливались в просторную площадь, кружили у подножия памятника. Здесь было весело и суетно, как в дни праздника. Народ явился в предвкушении развлечений и забав. Царило то радостное волнение, которое связано с долгожданным теплом, стуком женских каблучков, нарядными шарфами, блеском взволнованных глаз.
Было много молодежи, дурашливых и смешливых студентов. Они забирались на постамент и фотографировались, а потом начинали шумно, беспричинно смеяться. Порхали стайки девушек, неуловимо похожих одеждой, прическами, худобой, составляющих особое племя, наполняющее банки, конторы корпораций, рекламные фирмы, коммерческие бюро и издательства. Явились ярко одетые, в модных куртках и бантах, с экзотическими прическами молодые люди – художники, стилисты, дизайнеры, модники ночных клубов, завсегдатаи «Комеди клаб».
Два мима с раскрашенными лицами играли невидимым мячом, подпрыгивали, пригибались, падали на землю, вылавливая из пустоты несуществующий предмет. Их окружали завороженные люди, водили глазами в пустоте.
Пожилой лысый саксофонист держал в руках серебряный инструмент, раздувал небритые щеки, целовал металлический мундштук, оглашая площадь печальными руладами, молодая женщина зачарованно слушала, и у нее, как у кенгуру, выглядывал из переносной сумки младенец.
Были истовые демократы с двадцатилетним стажем, истоптавшие не одну пару обуви в маршах и демонстрациях, с лицами, на которых держалось одинаковое выражение нетерпеливого раздражения, бурлящего негодования, тоскливой надежды на сокрушение несправедливого мира. Хромала, опираясь на палку, остроносая женщина в мятом берете, поношенном пальто. Ее заостренное лицо, колючее плечо, седые прядки и кривая клюка указывали на далекую, ей одной ведомую цель, к которой ее двигала яростная и упрямая воля. Другая женщина, в неряшливом пальто и старомодной шляпке, экзальтированно выкликала: «Свободу политическим заключенным!», раздавая листовки, где требовалось освободить арестованных танцовщиц из группы «Бешеные мартышки».
Но было много обычной интеллигентной московской публики, вполне обеспеченной, но с неутоленным чувством справедливости, которую во все времена попирает порочная, склонная к деспотизму власть.
Бекетов кружил в толпе, не находя в ней ни Шахеса, ни Мумакина, ни Лангустова. Не было Коростылева и Паолы Ягайло. Его план удался. Оскорбленные, ненавидящие друг друга оппозиционеры не явились на площадь, не привели своих сторонников, значительно ослабив ударную силу марша. Однако разрозненные группы националистов, коммунистов и либеральных активистов размахивали красными, имперскими и радужно-яркими флагами, под которыми перемещались группки сексуальных меньшинств. И уже гудели в разных углах площади мегафоны, призывая толпу формировать колонны. Становилось все больше репортеров, фотографов, телеоператоров, начинавших поиск сюжетов. Осторожно прокатило несколько полицейских машин, расплескивающих фиолетовые брызги.
Вдруг среди многолюдья, бесформенных скоплений и сгустков пробежала волна, повлекла толпу, словно потянули невидимый невод, улавливая людскую гущу. Все устремились в одну сторону. Туда же торопились телеоператоры. Туда же колыхнулись флаги. Туда же зашагал Бекетов, стиснутый возбужденной толпой. Там появился Градобоев. Охрана теснила людей, раздвигала толпу, прокладывала Градобоеву путь.
Градобоев был выше других. Возвышалась его непокрытая голова. Лицо показалось Бекетову огорченным и бледным. Глаза возбужденно блестели. Губы улыбались. Он ждал, когда его окружат журналисты, заблестят диктофоны, потянутся мохнатые, как пушечные банники, микрофоны, замерцают окуляры телекамер.