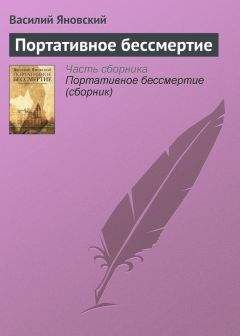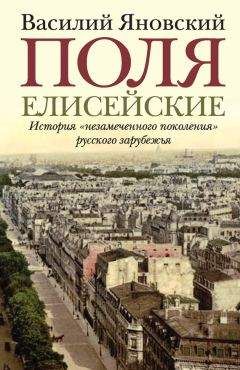Василий Яновский - Портативное бессмертие (сборник)
А ртутно-пухлый, хозяйственный кондуктор неизменно торчал на пути с иглою или щеткою в руке. По субботам он не выпускал из виду молодую Руссо и ее ноги: для этого нужно было стоять задрав голову, пока та растирала всем тугим телом медь кнопки, дощечки и ручек дверей. «О таких пишут в газетах, вы увидите!» – оживленно клялась правая соседка (с девочкой), послеживая с веселым ужасом за кондуктором. Под бабкою Руссо поселился старый холостяк с пушистыми усами: они, вероятно, отнимали у него весь досуг; его окно опоясывали клетки с канарейками, за которыми он ожесточенно-нежно ухаживал. Однажды в том окне появилась пухлая, добрая женщина, этакая жизнерадостная тетка, поблекшая, но очевидно мастерица печь и готовить. Спустя немного времени их обвенчали в нашей мэрии. В честь этого нижний этаж объединился на одно воскресенье (Марго, почтальон) и речисто, сметливо уничтожал необычайные яства молодой. Она же завела к птичкам кота: единственный, что уцелел у нас, принялся (у остальных коты не держались, как, впрочем, и птицы, и рыбки). Квартира под четою Руссо не имела определенного назначения: окна упирались в самую уборную, отчего народ там постоянно и быстро менялся. Тут одно время ютилась вдова с мальчиком. Мать – длинная (крохотная головка на худой шее с кадыком), сынишка – чахлый, горбится под тяжестью незримых нош. К ним ходил в гости молчаливый, грустный человек: поправлял электричество, чинил звонок, вообще заменял мужчину. Иногда днем там притворяли ставень и зажигали свет. По праздникам сынишка чистил башмаки и выставлял их на подоконник: среди прочих и уродливые, мужские. Шли гулять, и было мучительно видеть, как мальчик, в черном, угрюмый, чего-то нестерпимо стыдящийся, сутулясь, следует за этим специалистом по звонкам и кнопкам. Дальше начиналась неисследованная земля, чужой материк, другая координатная система с новыми осями: уборная, краны, площадки и прочее. Свисали откуда-то простоволосые головы, трепались мокрые чулки, мелькали цветные халаты, растерзанные бюсты, голые ноги, корзинки с зеленью и овощами, раздавались кхэ-кхэ и хны-хны детей, озабоченных проблемою «пи-пи» и «ка-ка».
К вечеру являлись мужья, усталые воины, грубые и неудовлетворенные. Частные виллы на улице Будущего окрещивались собственными именами: Иветт, Мари-Луиз, Пьер-Жан… редко: Ла Корбей [80] или Le Nid [81] . Только одну звали несколько осмысленнее: c’est assez (достаточно ли уже денег собрано? Или: баста, хватит с меня этой каторги, хочу иной жизни). В гостиных, разумеется, гремела электрическая музыка. Вблизи – несколько аппаратов; но сильнее всех разил слух громкоговоритель виллы «Мюгэ» [82] . Там трубили целый день, в любую погоду, до позднего вечера. У окна неподвижно торчал грузный, тучный, бритый старик с бледно-синим лицом и рыхлой шеей, свисающей подобно грыже. Он сидел и сосредоточенно ругался. Боком, так что, обращаясь наполовину к улице и прохожим, делая зачаточные движения головою, вправо, влево, пробуя ее повернуть, извергал непрерывный поток обличений и проклятий; явственно выделялось: «салоп», «сальтэ» [83] . За его спиною, на заднем плане, виднелись: смущенная, маленькая, юркая жена, сын, взволнованный, с кающимся лицом, дочь, норовящая скрыться (отец ее удерживал). Время от времени они пытались ему объяснить, доказать, внушить, что нет особых причин беспокоиться, оправдаться наконец. Но старик производил впечатление больного: словно вся кожа, оболочки мозга – чешутся; и этот зуд он пробовал успокоить фантастическою руганью. Последнюю-то домашние и старались покрыть сплошным громом своего радиоаппарата. Однако его чесоточное «салоп», «сальтэ» (вовсе не громкое, а пробивающееся благодаря особой убедительности своего раздражения), легко заглушало всю среднюю Европу, перекатывало через Альпы и Пиренеи, подступало к Мадриду и Варшаве, душило Вагнера и Оффенбаха. Дальше за ними, в смежных виллах, жили две старушки. Ранним утром (когда случалось пробегать – в госпиталь, на экзамен) я их уже заставал на посту: сокровенно беседовали. Так как в свое время они предусмотрительно отгородились высокой, каменной стеною, то это занятие требовало особой сноровки. Одна взбиралась на стул у себя на крылечке, другая, с противоположной стороны, упиралась всем телом в перила, ставя ногу на железную тумбу (украшение): только так они могли видеть лбы друг друга. Было нечто тихо-безумное, припадочное в этих двух востроносых старушках с глазами птиц (может, благодаря летательным позам), на рассвете сокровенно обменивающихся первыми впечатлениями. Иногда мне грезилось: во тьме подползаю, выпиливаю беззвучно камни – вот просвет… утром они выходят и (какое счастье!) видят себя рядом. Но я догадывался уже, что именно эта препона – залог их дружбы (пропорционально) и с уничтожением стены шепот обернется площадной (в квадрате) руганью. Ближе, сюда, двухэтажный дом с крыльцом на улицу. Хозяин, молодой еще, но красный, потный, пульсирующий всем горячим, бесформенным телом; чудилось: ткнуть его пальцем – потечет сукровица и вино. Он ежевечерне выходил на порог, в одной и той же позе, раз навсегда избранной, застывал, подпирая притолоку, часами не моргая, казалось, не думая. Но все же некоторые впечатления, должно быть, проникали в его коробку. Так, однажды он улыбнулся, и это походило на чудо. Рябой воробьенок, гурман, решил полакомиться конским пометом (в департаменте Сены редкость). Соседскому коту, в общем лишенному охотничьих повадок, кастрированному, послышались вдруг древние зовы: грациозно притаившись, подкравшись, он тяжко прыгнул и смял воробья. Вот когда на крылечке ухмыльнулся красно-спермо-рожий (доказав свою проницаемость). Его тринадцатилетняя дочь за один сезон толчком развернулась, расцвела, сформировав очаровательный таз и веско обозначив нежную грудь. Бедняжку стесняло это внезапно свалившееся богатство: стыдилась, смутно догадывалась, не знала доподлинно, что с нею происходит, алея до ожогов под изменившимися взглядами окружающих. Против их дома (рядом с нашим) в мансарде жил мальчик; подросток, каждое утро уносился на велосипеде (работал в городе). Вот к его окну бедняжку неизменно тянуло, так беспомощно-таинственно, что становилось трудно дышать. Они и раньше беседовали, шутили, перекликались, но теперь иное – что-то переместилось. Мучительно было смотреть на нее, глупую (по чьей вине?), непонятливую и все же настойчивую, как стрела, бесцеремонно пущенная властною десницей. Перед моим окном квадрат пустыря, просвет, где плыли товарные и пассажирские вагоны; у близкого вокзала невидимо маневрировали локомотивы: их свистки, преследуя меня с детства, опять и опять прободали сердце. Налево огороженный проволокой и кустами ежевики участок, где стояло сбитое из ящиков строение; в дождливые ночи его нищие (но равняющиеся к остальным) обитатели кляли Творца и гремели кровельным железом. Там жили две четы: такие – по облику – слоняются вдоль Сены, неся в мешке весь скарб, а в руке початую (прямо из горлышка) бутылку красного. Настоящего дома не вывели: пока хватило только на землю. Благодаря какому стечению обстоятельств… «Бродяги, отрепье», – кидали шепотом, оглядываясь, старожилы, ибо мастерской, утонченной ругани «нищих» боялись как пожара. Характеры распределялись так: Хромой грозен своим языком – жены его не слыхать; и асимметрично: второй, Лысый, бородатый, добрый и тишайший, а жена его («Такие не венчаются», – говорили наши дамы) опасна и любит драться. Тучная, синяя (и оттого неистовая), у нее опухоль в груди, мешающая циркуляции венозной крови; мы познакомились у сорного ящика, где она рылась, отбирая листья, кочаны капусты, салата, ботвы. Смерив меня взглядом и найдя достойным того, объяснила: «У нас кролики». Муж ее, Лысый, при мне только однажды произнес несколько слов. Хозяин лавочки докладывал присутствующим – и мне, случайно завернувшему, – почему у него вино стоит дороже на два су. Он его берет у крупных виноделов, и хотя платит больше, но зато на весь год обеспечен одним и тем же качеством (тогда как у мелких поставщиков сорта меняются). «Разве хорошо, если клиент пьет каждый день другое вино? Вы что предпочитаете?» – обратился он наугад к Лысому. И тот, осчастливленный сознанием, что его мнение тоже представляет какую-то ценность, смущенный неожиданно открывшейся возможностью предпочитать одно другому, наконец, гордый своим участием в отвлеченной, интеллектуальной беседе, – Лысый, вдруг обрел дар речи: «А, это! О, вы можете быть уверены! А, я думаю! Ха-ха!» – и долго еще восторженно, чистосердечно крякал и хлюпал носом; а выйдя оттуда, сообщил: «У него башка на плечах у этого, а-а!» – радостно и в то же время озадаченно поводя смешным, бородатым, козлиным лицом. Главой общежития считался Хромой (не он ли, угодив под автомобиль, раздобыл деньги?), чувствовавший себя природным землевладельцем. Обходил с ножницами кусты; водил козочку из угла в угол, привязывал (к вишне на чужом пустыре), отвязывал, гнал. Основной его заботой являлись псы. Он завел нескольких (вероятно, дареные: старые, облезлые); одних, неизвестно чем руководствуясь, посадил на цепь, других муштровал так. Особенно шумела молодая, светлая, скачущая зайцем дворняга Кики. Целый день она заливалась суетливо-радостно-благословляющим вселенную лаем. Ликующе и благодарно: что родилась, что молода, что светит солнце и сам хозяин – подчеркнуто грубо, как всегда простые люди, обращаясь к животным, детям, женщинам (еще: цветы и фрукты), – с нею играет, ласково-матерно ругаясь, ищет блох. «Кики, Кики!» – вопил он усовещающе, а та прыгала мячиком вокруг, лукаво лая: весь мир казался ей отчим домом. Хромой нюхал табак; чихал, вначале аккуратно, с промежутками, убедительно, затем паузы сокращались, ускорялся темп – глубже, изнурительнее – и вот уже все подобно припадку: сумасшедшая пляска, корчи падучей с одурелым всхлипом, взвизгом, ревом.