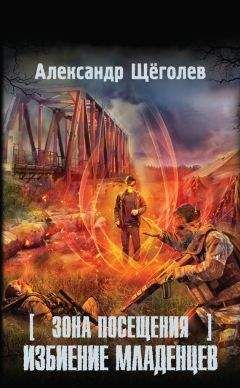Владимир Лидский - Избиение младенцев
«Читалка» представляла собой уютное полукруглое помещение, по стенам которого были развешаны портреты русских писателей и поэтов, а в неглубоких стенных нишах располагались мраморные бюсты представителей самодержавной династии. В середине помещения был установлен длиннющий прямоугольный стол, по обеим сторонам которого стояли грубые деревянные лавки. Одну из стен полностью занимали внушительные дубовые книжные шкафы, украшенные по краям конусами и шишечками. Напротив, возле стены, между бюстами самодержавных особ, стоял маленький простой столик, за которым сидел офицер-воспитатель, ведающий книжным хозяйством и приходящий на помощь кадетам в случаях затруднений с выбором книг. Мальчики подошли к нему, представились и попросили: Саша – «Таинственный остров», а Никита – «Последний из могикан». За читальным столом уже сидели шесть-семь кадет, и новички присоединились к ним. Рядом с Сашей оказался лобастый второклассник в очках с тонкой металлической оправой, который сердито посмотрел на новенького, неуклюже и шумно усевшегося возле него. Саша раскрыл книгу и поверх страниц положил растопыренные локти, как он привык делать это у себя дома, но лобастый сосед опять сердито посмотрел на него и, хмурясь, тихо сказал:
– Не замай! Когда читаешь книгу, не должно быть тесноты…
Саша послушно отодвинулся, но сердитый читатель вдруг неожиданно протянул руку и так же хмуро, с угрюмым безразличием представился:
– Самохвалов. Константин.
– Александр Гельвиг, – отрапортовал в ответ Саша. И добавил:
– А это – мой друг Никита Волховитинов, – и указал на Ники.
Новые знакомцы пожали друг другу руки и погрузились каждый в свою книгу. Увлёкшись чтением, они не заметили, как быстро пролетело время, и очнулись от сладкого книжного сна только тогда, когда хранитель библиотечных грёз предложил воспитанникам отправиться в расположение своих рот, чтобы взяться за подготовление уроков к завтрашнему дню. До восьми вечера кадеты занимались своими пока несложными учебными заданиями, затем коротко поужинали, выпили чаю с булкой и ещё некоторое время после чаю были предоставлены самим себе.
Саша и Ники несколько освоились в новой обстановке, и уже не так трагично воспринимали своё нынешнее бытиё; бродили по ротной рекреации, меж кроватей в спальном помещении, знакомились с товарищами и находили себе вполне кадетские занятия – драили до зеркального блеска ременные бляхи и пуговицы мундира, укладывали в ротном тамбуре слои чёрной ваксы на свои жёлтые сапоги, учились крепить погоны на плечах и ловким, резким движением направлять сбивающиеся складки рубашки за спину, словом, входили в колею новой жизни…
Утром, после подъёма и умывания к Саше подошёл второклассник Коваль и тихим, заискивающим голосом приказал:
– Иди-ка, мою коечку заправь…
– А сам ты что? – повернулся к нему Саша. – Калека?
– Ты сейчас сам калекой станешь, – возразил Коваль. – Асмолова только позову. Он тебе ручки-то повыдернет.
– А чем же я тогда постельку тебе стану прибирать?
– Так будешь? – не поверил Коваль.
– Нет, не буду. Потрудись-ка сам.
В этот миг к ним подошёл Асмолов и угрожающе взглянул на Сашу.
– Почему не подчиняемся приказам командира, господин кадет? – спросил он с рокочущими нотками в голосе, смешно сползающими в мальчишеский дискант. – Ещё, вероятно, под лампой не стояли и лишних нарядов не получали?
– Не имел чести, – вызывающе ответил Саша. Тут к нему подошёл Никита и встал рядом, почти коснувшись своим плечом плеча друга.
Но Асмолов, невзирая на явную угрозу, схватил Сашу за шиворот исподней рубахи и потянул к себе. Тогда Никита ударил по руке Асмолова и сильно оттолкнул его. Тот стремительно отлетел и ударился спиной о стоящую за ближайшей койкой колонну.
– Ладно, ещё поговорим, – пробормотал он и зыркнул на Сашу кровавым глазом.
Его рябое лицо, искажённое гневом, выражало крайнюю степень неприязни и, действительно, не сулило ничего хорошего.
Следующей ночью обещанное счастье не заставило себя долго ждать: едва заснув, Саша проснулся от того, что под боком у него шевелилось что-то холодное и неприятное. Пробудившись с биением сердца и вспотев от страха, он пошарил рукою по постели и обнаружил на своей простыне огромную, отвратительную на ощупь жабу. Сотрясаясь от гадливости, он с помощью одеяла скинул её на пол, поправил постельное бельё и снова улёгся. Саша с малолетства не любил жаб, лягушек, змей, ящериц, гусениц и пауков, он непроизвольно содрогался всем телом, увидев их где-нибудь на берегу речки или во время лесной прогулки, и испытывал каждый раз при подобной встрече странное ощущение рвотного рефлекса, как будто бы только что обожрался слизняков. В постели было так неуютно и неприятно; всем телом Саша чувствовал недавнее присутствие под собою омерзительного земноводного, ворочался, двигался по койке туда-сюда и никак не мог хорошенько умоститься. «Это цук, – подумал он с тоскою и досадою, – надо его как-то преодолеть».
«Цуком» или «цуканьем» звались повсеместно в кадетских корпусах такие отношения, когда старшие кадеты могли безнаказанно изводить младших, навязывать им свою волю, а порой и откровенно издеваться. Об этой традиции знали все, – и воспитатели, и офицеры, и инспектора, и само собой, директора корпусов. «Цук» считался неотъемлемой и положительной чертой в деле воспитания кадетов, потому что расценивался воспитательским составом как шефство старших над младшими, как строгая, товарищеская забота и помощь в деле освоения новенькими строгой военной дисциплины, внутреннего регламента. Младшие кадеты должны были понять, что у них, будущих военных, нет иного пути, кроме как в любых ситуациях строжайше следовать Уставу, беспрекословно и даже рефлекторно подчиняться приказам, не размышляя и не анализируя их. Другой вопрос, что, как и в любом деле, в этом возможны были и, само собой разумеется, возникали время от времени злоупотребления, когда не соображениями порядка и дисциплины руководствовались старшие кадеты, применяя «цук» к месту и не к месту, а исключительно своею злою волей. Некоторые воспитанники, используя старшинство, заходили в проявлении собственной неприязни и ненависти настолько далеко, что порой на этой почве возникали серьёзные конфликты. В силу особенностей характера, дурных наклонностей или пороков духовного развития того или иного кадета это происходило, Бог весть, но иногда такие воспитанники много хлопот доставляли своим товарищам и, конечно же, офицерам-воспитателям. Офицерская честь отвергала любые проявления неуважения, хамства, пренебрежительного отношения и к младшим, и к равным, и потому «цук» становился порой настоящим бичом в некоторых корпусах. Его не могли и не пытались искоренить, поскольку он всё-таки оставался важной воспитательной составляющей, его старались определить в приемлемое русло, обуздать, окротить, сделать полезным. Но, конечно, не всегда это получалось.
Саша знал о «цуке» со слов старшего брата Евгения, учившегося в первом классе этого же корпуса семью годами раньше. Неприятная, отвратительная история, случившаяся тогда с братом, чуть не стоила ему военной карьеры, озлобила его на весь мир и стала для него тем трагическим рубежом, который был нечеловеческим усилием преодолён, но навсегда оставил в душе кровоточащую рану…
Женя точно так же, как Саша и Никита, поступил в своё время в Первый Московский кадетский корпус и, будучи новичком, почти сразу столкнулся с проявлениями «цука» со стороны старших – второклассников и второгодников. Одним из второгодников, который был оставлен в первом классе за неуспеваемость, был сын ротмистра или, как раньше говорили, драгунского капитана, – Лещинский, плотный малый с наглой рожей и большими кулаками. Он почему-то сразу невзлюбил Женю и беспрерывно «цукал» его. Лещинский начал воспитание новенького очень хитро. С первого взгляда могло показаться, что лишь интересы дела заставляют его предъявлять в свежеиспечённому кадету какие-то особые требования. Лещинский постоянно одёргивал Женю, придирался к его внешности, одежде, речи, но делал это как-то доброжелательно, с мягкими, почти ласковыми интонациями в голосе, не приказывал, а предлагал новичку сделать нечто по его мнению чрезвычайно важное, и именно внешнее расположение старшего товарища усыпляли бдительность новенького. Женя исполнял всё, что требовал второгодник, не понимая до поры до времени, что тот сильно превышает свои полномочия.
Как-то Лещинский остановил Женю в корпусном коридоре и, придравшись к его плохо начищенным пуговицам, заставил приседать на месте. Поощряемый подзатыльниками, Женя приседал до изнеможения, до боли в мышцах, до онемения ног, а Лещинский требовал делать упражнение всё быстрее и быстрее. И когда «зацуканный» насмерть парень совсем уж без сил остался на полу, не имея сил встать, мучитель особо увесистым подзатыльником всё же поднял его и заставил крутиться вокруг собственной оси. Женя крутился на онемевших ногах до тех пор, пока Лещинский не остановил его, но устоять после остановки не смог и с закружившейся головой упал в его распростёртые дружеские объятия. Но суровый воспитатель не стал удерживать воспитуемого, напротив, он со смехом пытался оттолкнуть его в противоположную сторону. Продолжалось это довольно долго, но тут случился поблизости кадет шестого класса Новожилов, обративший внимание на неприличную сцену. Новожилов прекрасно знал, что такое «цук» и во всё время своего пребывания в корпусе отдавал должное его воспитательному значению, но ещё Новожилов прекрасно различал, где дружеское участие, а где – жестокость или желание хоть маленькой властишки. Потому он счёл своим долгом вмешаться в процесс, остановился, некоторое время наблюдал за происходящим, а потом пальцем поманил Лещинского: