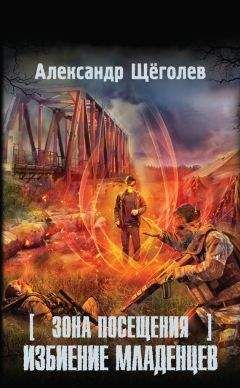Владимир Лидский - Избиение младенцев
Кадеты быстро заняли большую хату, в которой не было хозяев, и отрядили самых дерзких своих товарищей на поиски съестного. Товарищи не заставили себя долго ждать и через небольшое время принесли добытой у немцев-колонистов кукурузной муки, немного хлеба, картошки и даже щепотку соли. Боря Кущинский и Миша Журьяри взяли на себя обязанности кашеваров, поставили кипятить воду и приготовились варить мамалыгу. Остальные расслабились в тепле и неге обжитого привала. Почти все сразу задремали, но отдыха кадетам судьба дала не более получаса: посреди тишины и умиротворённого сопения вбежал, шумно стуча сапогами, посланец генерала Васильева и заполошным криком разбудил всех. Эстафету офицера подхватил полковник Рогойский:
– Кадеты, в ружьё!
На улице стали рваться снаряды, со всех сторон застрекотали пулемёты, гулко защёлкали винтовочные выстрелы. Красная артиллерия крошила сельцо.
Кадеты повыскакивали наружу и толпой побежали вперёд.
– В це-е-епь! – истошно заорал Рогойский, как только они покинули улицы и рассыпались по снежной целине околицы. – Первый взвод!.. Вправо, к кладбищенской стене! Третий взвод! Влево, к озеру!
Никита бежал вместе с товарищами, слышал их свистящее дыхание и боковым зрением видел тёмные пятна летящих рядом фигур. Яростная злоба снова захлёстывала его, поднималась в нём омерзительной тошнотворной волной и опять ему хотелось рвать глотки врагов и вгрызаться зубами в их смердящую плоть. Неукротимое бешенство и злобная ненависть несли его вперёд, он сжимал в руках винтовку и хотел убивать!
В разноцветьи озёрного льда Никита видел редкую отступающую цепь, которую теснили с холмов большевистские пулемёты, и ему хотелось туда, на лёд, на помощь своим погибающим братьям. Один упал, другой, третий…там и сям в цепи падали солдаты, а кадеты неслись вперёд, судорожно сжимая винтовки и оскаливая ноющие на морозе зубы.
По команде Рогойского они поп а дали в межевую канаву на краю поля и залегли. Справа от них возвышалась серая кладбищенская стена, за нею далеко вперёд просматривалось открытое пространство, левый фланг – в сторону озера – тоже был оголён. Красные обстреливали кадетов через кладбище, с противоположной его стены; одновременно, зайдя с левого фланга, они отрезали их от добровольческой роты, отчаянно сопротивлявшейся перед озером.
– Пулемёты к бою! – прокричал, чуть привстав, Рогойский. – Волховитинов – на «максим»! Никольский – на «льюис»!
«Льюис» ещё перед началом похода дал кадетам полковник Мамонтов, а «максим» был захвачен ими при штурме красной заставы на входе в колонию.
Глеб Никольский и Никита, выскочив из межевой канавы, разбежались по флангам, Глеб побежал направо, Никита – налево.
Впереди множились цепи красных, из боковых ложбин во фронт стала выдвигаться конница, формируясь в кулак, и авангард его украсил своею статною фигурой гарцующий на вороном коне боец с огромным полотнищем алого знамени в руках.
Никита хорошо видел противника: вот конники в странных островерхих шлемах, не торопясь, вынули из ножен шашки, и каждый положил свой бликующий под солнцем клинок себе на плечо, а над другим плечом виден был отставленный чуть в сторону винтовочный ствол… вот перед отрядом рядом со знаменем стала играющая под хозяином резвая каурая… поворот головы, короткое, неслышное издалека слово и медленное движение сабли вверх… весь отряд, как заворожённый, повторяет это роковое движение, решительно поднимая холодные клинки над головами… лошади в нетерпении топчутся на месте, ржут и фыркают, выпуская из ноздрей облачка пара и… шпоры!! Полетела вперёд конница по вздыбленной целине, в яростном снежном вихре, взметаемом чудовищными копытами, словно в пропасть, под наклоном, всё ускоряясь и ускоряясь, так, будто бы и не люди скакали на спинах бешеных животных, овеваемых сатанинским ураганом, а какие-то гигантские крылатые призраки, несущие смерть, смерть и смерть, и вот уже слышны стали дикие вопли, хриплое рычание и безумный храп одичавших вмиг коней… эти звуки, сливаясь в один бессмысленный гул, в шум громоздящегося морского вала, в грохот сорвавшейся горной лавины, приближались и, вслушиваясь в эту какофонию, вглядываясь в эту дьявольскую, на глазах вырастающую в размерах свору, Никита ощутил ни с чем несравнимый ужас – ужас преисподней, который неотвратимо надвигался, бессмысленно разевал свою зловонную, смердящую гнилыми зубами пасть и готовился поглотить его, всосать в своё кромешное слизистое нутро и навеки растворить саму сущность того, что было Никитой, того, что было живым тёплым человеком, который думал, любил и хотел жить… Он содрогнулся от гадливости и вцепился в холодную сталь «максима»; красные неслись на него и в метельной круговерти он уже различал светлые пятна перекошенных криками лиц, – сдвинув пулемёт на левый фланг атаки, он прижал гашетку и начал косить врагов… «максим» зашёлся от ярости и забился, словно в эпилептическом припадке, он рычал и изрыгал горячий свинец и рвался вслед за своим боезапасом, хрипя и задыхаясь, как срывающийся с поводка бешеный пёс, которого хлещут по морде жгучим прутом, а Никита, сливаясь со своим пулемётом в единое целое, вбирая в себя бескомпромиссную пулемётную душу и становясь продолжением его холодного стального тела, тоже трясся в экстазе ярости и стрелял, стрелял, стрелял; когда же напряжение его злобы и напряжение боя достигли предела, он разодрал рот и, подобно раненому хищнику, всегда непобедимому, а теперь поверженному, – закричал:
– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!!!
И рядом с ним, так же дико, закричал маленький Авраменко, державший патронную коробку и следивший за пулемётной лентой.
Впереди упали с коней несколько кавалеристов, но атака не захлебнулась, дьявольский крылатый отряд с развевающимся на фоне белого метельного вихря красным знаменем продолжал лететь на позиции кадетов, и ещё свирепее становились лица приближающихся всадников, а Никита всё стрелял и стрелял, и уже понимал, что всего через несколько секунд эта лава сметёт оборонные цепи, и пойдут гулять неподкупные шашки по стриженным кадетским головам!
Кадеты яростно отстреливались, но пули со стороны красных пехотных отрядов летели густо; напоённые горьким ядом классовой ненависти они без труда находили своих избранников, – вот упал раненый в живот Женя Никитин из Ташкентского корпуса и рухнул наземь орловец Володя Григороссуло, вот закричал и схватился за бедро Стойчев, а одессит Лёва Клобуков, инстинктивно сжимая голову ладонями, повалился навзничь, – пуля попала ему в глаз и жутко было видеть это юношеское лицо, искорёженное обезумевшим металлом… вот Никитин второй – Леонид, яростно отстреливаясь, вдруг вспыхнул лицом – его залитые кровью рот и подбородок пламенели, – пуля разорвала ему щёку, и кровь струёй полилась за воротник… чуть в стороне от цепи упал, взмахнув руками, словно прощаясь, горнист Тер-Никогосов, и латунь его горна, перекинутого через плечо, резко блеснула напоследок, на мгновение ослепив тех, кто видел смерть гордого тифлиссца… И вот уже испустил дух Григороссуло, зарывшись головою в снег, а Женя Никитин в страшных мучениях шёпотом молил своих товарищей:
– Ребята, пристрелите меня… убейте… пожалуйста, убейте… не могу больше терпеть…
А разъярённый отряд красных кавалеристов, между тем, всё летел и летел вперёд, раздвигая упрямыми головами своих коней упругий морозный воздух, и вдруг на полном скаку разделился надвое и уже двумя потоками помчался вперёд, подобно бурной порожистой реке, решившей покорить как можно больше пространства, – впереди левого потока нёсся всадник со знаменем, трепещущим на ветру, следом за ним, в некотором отдалении летел ещё один, в фигуре которого Никите почудилось что-то знакомое, какое-то неуловимое сходство с кем-то из прошлой жизни; это ощущение длилось доли секунды, оно мелькнуло и пропало, потому что кавалеристы неслись прямо на Никиту, а он уже в панике продолжал стрелять и целил прямо в центр атакующих… и так, несмотря на панику, захотелось ему всмотреться в показавшуюся знакомой фигуру, что он чуть привстал, и тут же почувствовал лёгкий удар в плечо… тут движение всадников странно замедлилось, они плавно поплыли над снежной порошей, и знамя, под острым углом втыкающееся в небо, дрогнуло и стало клониться, его алое, словно окровавленное крыло беспомощно забилось в подбрюшьи коня, замедляющего свой бег, и видно было, как знаменосец подался вперёд, левой рукой обняв шею своего четвероногого друга, – чтобы не упасть… в это мгновение откуда-то сбоку вылетел другой всадник: подхватив знамя, готовое вот-вот выпасть из слабеющих рук раненого знаменосца, он гикнул и рванулся вперёд, а тот, другой, только что передавший эстафету, медленно сполз с лошади, уронил свои безвольные руки в снежную, взбаламученную скачкой кашу и, зацепившись ступнёй за стремя, несомый обезумевшей лошадью, полетел в самой гуще этой каши вслед своим захваченным азартом атаки товарищам. Левый фланг кадетов дрогнул и начал отступать. Мальчишки ринулись к околице колонии, пытаясь под стенами домов найти укрытие и спасение. Никита развернул раскалённый пулемёт и потащил его к ближайшей хате: под пулемётом шипел, соприкасаясь с металлом, грязный снег. Маленький Авраменко пытался помогать ему. Кадеты стали окапываться на входах в улицы, в палисадниках и под стенами домов. Никита оглянулся: красные продолжали свой стремительный полёт. Неловко повернувшись, он вдруг почувствовал резкую боль в плече, рукой прижал жёсткое сукно шинели и понял, что оно пропитано схватывающейся на морозе кровью. А красные кавалеристы в островерхих шлемах всё летели вперёд, уже совсем близко сверкали их шашки, и Никита опять ощутил неотвратимость смертного ужаса… успев отбежать к шаткому забору палисадника, он поднял голову и увидел, как из мутного снежного вихря вылетает прямо на него та самая знакомая фигура, она заслоняет собой белый свет, гигантская лошадь подымается на дыбы, и перед глазами Никиты встаёт резко пахнущий лошадиный круп в жёстких блестящих ворсинках… всадник заносит шашку и, отводя руку для удара открывает своё лицо… Никита вскрикивает – то лицо Жени, Евгения Гельвига, соседа, старшего друга, почти брата!! Никита выворачивает винтовку с плеча, судорожно передёргивает затвор и, упав в снег, вслепую стреляет! Уже закрывая глаза и погружаясь в сумрак бесчувствия, он видит на самом краю своего затухающего сознания пьяно зашатавшуюся лошадь и Женю, схватившегося рукой за шею… пальцы его руки становятся алыми, сквозь них медленно просачивается кровь, и Женя, страдальчески сморщившись, с усилием разворачивает коня и клонится куда-то вбок…