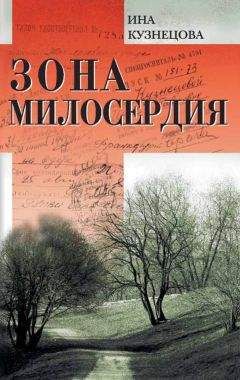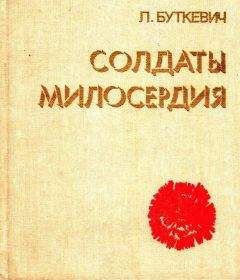Владимир Шаров - Старая девочка
Он снова отпил молока и, обращаясь к зэкам, продолжал: “Вы, наверное, догадываетесь, что будете на нем главными обвиняемыми. По виду, – говорил Клейман, – вы обыкновенные советские люди. Большинство из вас не участвовало ни в оппозициях, ни в платформах, больше того, многие раньше честно, преданно сотрудничали с органами, но вот стоило Вере вас поманить, даже не манить, просто самой пойти назад, и вы, как овцы, побежали за ней. Вы уйдете и ни разу не вспомните, что оставили, уйдете, ни о чем не спрашивая и ни о чем не жалея, а за вами, также ни о чем не спрашивая, пойдут другие. Ведь все мы в кого-то когда-то были влюблены, все без кого-то не можем жить.
Допрашивая вас, – говорил Клейман дальше, – я собрал огромный материал, и вот что получается: все вы разные люди с разной судьбой, тем не менее каждый хорошо помнит и, значит, сможет восстановить примерно двадцать пять – тридцать человек, кто немного больше, кто немного меньше. Те, естественно, тоже – каждый своих двадцать пять, но ведь в итоге выходит никакая не ползучая контрреволюция, а самый настоящий переворот”.
До этого Клейман был хоть и возбужден, но говорил негромко, здесь же, чтобы задержать новый приступ кашля, успеть закончить мысль, он форсировал голос. “Пока эти московские мудаки спорят, велика ли опасность, – почти кричал он зэкам, – не станет ни партии, ни советской власти, не будет вообще ничего. Только слепой не видит, что страна просто уходит у них из-под ног”. Клейман хотел еще что-то сказать, но его душил кашель, он захлебывался на первой же фразе и в конце концов махнул вохровцам, чтобы те вели зэков в зону.
На следующий день Клейман продолжил допросы. Зэки к тому времени уже в это втянулись, привыкли и для него и для себя вспоминать свою жизнь, и, по свидетельству турка, то, что они услышали на болоте, не произвело на них впечатления. Похоже, им было безразлично, что единственное, чего добивается Клейман, это отправить их на тот свет. Допросы шли, как раньше, но, наверное, из-за кашля Клейману не удалось сказать что-то важное, потому что через три дня он велел вохровцам опять собрать их на болоте.Начал Клейман и на этот раз с благодарности. Он сказал, что работа продвигается споро, и, судя по всему, через две недели он кончит допрашивать последнего из своего списка – Пушкарева. Дальше дней десять, чтобы обработать материал, после чего дело можно передавать в прокуратуру. В общем, подвел он итог, здесь, похоже, всё в порядке. Через месяц у него будет точная схема, кто, когда и кого поведет назад, места сбора, пути колонн, имена и фамилии организаторов, в связи с этим, продолжал Клейман, он хочет ответить зэкам добром на добро – так сказать, воздать им должное.
Первое, что он готов сделать: ему известно, что, восстанавливая Веру, они обнаружили людей, которых здесь, в лагере, нет, но которые любили Радостину, как они сами. Ясно, что без них Вера неполна. Один – всеми ненавидимый Лев Берг, решивший выдать себя за своего брата. Сам он прекрасно понимает чувства зэков, продолжал Клейман. Однако во время допросов ему стало казаться, что сейчас они нашли в себе силы Берга простить. Он, Клейман, всегда уважал человеческое благородство, но понимает, что в данном случае дело не в нем, просто, если Берг оставит попытки сделать Веру только своей, соединится с зэками, к их памяти о Радостиной многое добавится. Он внесет в общую копилку не только Веру, какой знал ее сам, но, главное, поможет восстановить пятнадцать лет, когда она была замужем за его братом Иосифом. Это время – сплошное белое пятно, поэтому любые воспоминания об Иосифе и Вере будут необычайно ценны.
В общем, он согласен по своим каналам отослать Бергу в Ярославль их коллективное предложение соединиться со всеми, кто, как и он, любит Веру.
Следующее: он, Клейман, знает еще двух человек, которые любили Веру, любят ее и сейчас, но органами НКВД они были пропущены, соответственно, здесь, в лагере, их нет. И вот, если зэки захотят им написать, предложив то же, что и Бергу, он дает слово, что оба письма дойдут в целости и сохранности. Первый из этих людей – секретарь Ярославского обкома партии Леонид Кузнецов, второй – генеральный секретарь Центрального Комитета партии Иосиф Виссарионович Сталин.
Так же спокойно, как и раньше, он добавил, что на Кузнецова ему плевать, другое дело – Сталин, и, будто забыв, где выступает, продолжал: Сталину давно пора задуматься, с кем он – с народом или с Верой. Что ему важнее – советская власть или Верина юбка. Сталину следует помнить, говорил Клейман зэкам, что в партии достаточно здоровых сил и, если он ничего не поймет, партия поступит с ним так же, как с троцкистами и зиновьевцами. Он еще долго говорил на эту тему, но закончил вполне примирительно, сказал, что, как и весь советский народ, убежден в мудрости товарища Сталина и не сомневается, что тот примет единственно верное решение. Какое – Клейман уточнять не стал.
Его по-прежнему беспокоил кашель, и после этих слов Клейман решил дать своему горлу отдых. Долго пил из термоса горячее молоко, о чем-то негромко переговаривался с вохровцами, наконец, подняв руку, попросил внимания.
“Все мы, – сказал он, едва стало тихо, – помним, какое воодушевление, какую веру в победу над врагом внушил нам парад Седьмого ноября сорок первого года на Красной площади. Немцы были у стен Москвы, а на Красной площади перед трибуной, на которой стоял товарищ Сталин, как всегда в этот день торжественным маршем проходила пехота, кавалерия, шли танки, артиллерия, а над головами, защищая войска с воздуха, с воем проносились штурмовики.
В тот же день, – продолжал Клейман, – прямо с парада все, кто в нем участвовал, пошли на фронт и почти все там погибли. Их молодые жизни были положены на алтарь победы и принесены в жертву. На этом параде Сталин прощался с теми, кто шел умирать с его именем на устах, а они прощались со своим вождем. Он дал им с собой проститься, и народ никогда не забудет этой милости”.
Дальше Клейман говорил спокойнее: “Но немцы – что, – сказал он, – раньше или позже мы с немцами справимся. Русские немцев всегда бивали, у немцев против русских жила тонка, а вот то, что затеяли вы, – сказал он, тыча теперь пальцем в зэков, – вы, народ Веры, – это куда серьезнее. И все-таки вы, хоть и враги, но вели себя достойно, – продолжал он. – И мне жаль, что Веры сейчас с вами нет, что Вера в Ярославле, и некому с вами проститься, напутствовать перед дальней дорогой. И вот я, – продолжал Клейман, – то есть я, который и посылает вас на смерть, Первого мая, в День международной солидарности трудящихся, заменю Веру, сам приму у вас прощальный парад”.
По словам турка, зэки не сразу поняли, что сказал им Клейман, а когда поняли, были растроганы. Следующие три недели, рассказывал он Ерошкину в Ярославле, прошли в лихорадочной подготовке к первомайскому торжеству. Все, и зэки и вохровцы, работали с энтузиазмом и радостью. Вместе они сначала составили общий сценарий праздника: кто, когда и как будет проходить, кто что петь, какой текст будет читать лагерный кум, комментируя парад, как в Москве – Левитан.
У всех была бездна идей, Клейман каждого терпеливо выслушивал и старался учесть все пожелания – понимал, что значит для зэков этот парад. К сожалению, от многих предложений пришлось отказаться, они или не вписывались в сценарий, или подготовиться к ним за три недели было невозможно. Клейман лично объяснял это каждому зэку, чье предложение отклонялось, и, по свидетельству турка, обид не было.
Сценарий писали пять дней, после чего начались репетиции. Было решено сделать праздник похожим на те московские первомайские торжества, в которых часть зэков участвовала и сама. Так, все согласились, что, как в Москве, где мимо Мавзолея проходят лучшие представители каждого завода, каждой фабрики или учреждения, здесь мимо трибуны, на которой будет стоять Клейман, по очереди пройдет один зэк за другим; за каждым – пусть и незримо – колонна из тех двадцати пяти душ, что по первому зову пойдут за ним в прошлое. Когда прохождение этих колонн закончится, зэки вновь сойдутся вместе, образовав одну сводную колонну, колонну апостолов Веры, ее избранного народа. Венчая парад, она торжественным маршем пройдет перед Клейманом.
Это, так сказать, костяк празднества: кроме этого, зэки и Клейман согласились, что впереди каждой колонны, вернее, не впереди, а как бы предваряя ее, напротив трибуны должна возводиться гимнастическая скульптура – ее аллегория. Ответственность за это дело возложили, естественно, на Диму Пушкарева, а в качестве материала для скульптур отдали в его распоряжение детей башкира, а также пятерых вохровцев.
Клейман также предложил, и зэки его поддержали, чтобы следом за каждой колонной шла жена турка Ирина и пела какую-нибудь траурную арию из своего оперного репертуара. Ирина, сестра Радостиной по крови, должна была вместо самой Веры здесь, под Воркутой, посреди занесенного снегом болота, идти и прощаться с ними, их оплакивать.