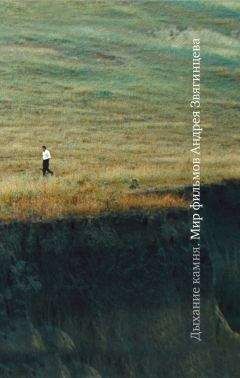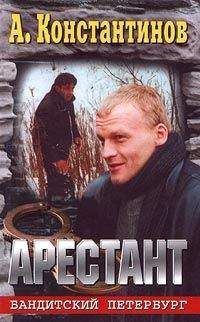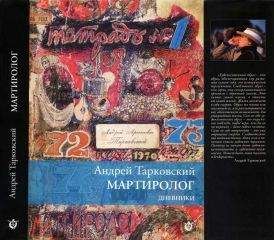Андрей Смирнов - Лопухи и лебеда
Я был озадачен. Кто же будет финансировать мой будущий фильм? Значит, деньги, вложенные в кино, невозможно вернуть? Государственной субсидии хватит сегодня разве что на коктейль для журналистов. Если это деньги телевидения, журналистам придется ограничиться пивом. Куда же делись почти две сотни картин, которые Россия произвела в 1992 году? Десяток показался на фестивалях, еще десятка два мелькнули в прокате и на телевидении, остальные исчезли бесследно. В условиях спада и инфляции в стране нашлись спонсоры для 192 фильмов, и, значит, все эти добрые люди разорились?
“Никто не разорялся, – посмеялся надо мной молодой коллега, недавно закончивший картину. – Спонсор дает не свои, а чужие деньги”. – “А тот, у кого он их берет?” – “И этот дает не свои”. – “А прокатная компания? А кинотеатр, заплативший за копию?” – “Все они платят чужими деньгами”. – “Тогда кто же тот, последний в цепочке, кому эти деньги все-таки принадлежат?” Это осталось коммерческой тайной.
Несколько ошарашенный, я пришел домой, сел к письменному столу. Включил телевизор. По двум каналам выступали православные священники. Один с жаром говорил об экономической реформе, другой давал советы молодым супругам. По остальным программам шли американские фильмы, перемежаемые рекламой японских автомобилей.
По данным социологов, в 1992 году 93 % всей аудиовизуальной продукции в России были американского производства. За тот же год кинотеатры потеряли почти миллиард зрителей. Средняя заполняемость залов не превышает 12 %. Девяносто кресел из ста остаются пустыми.
Может быть, свобода – не только отсутствие препятствий, может быть, свобода – это отсутствие пути?
Вот, сказал я себе, мечта сбылась, ты можешь творить свободно. Наконец русская культура вдохнула воздух свободы, и, судя по всему, это ее последний вздох. Для кого же я буду делать свой фильм? Кому обращу я свое послание?
Как известно, святой Франциск Ассизский проповедовал птицам. И кажется, с успехом.
1993
Темная вода
В последние дни августа 1957 года, когда каштаны начинают ронять листву, в городе Париже в кафе “Ротонда” на углу бульваров Монпарнас и Распай сидят двое молодых людей и девушка. Пьер и Николь пьют кофе, Жан-Мари разглядывает благополучную пожилую пару, которая оживленно беседует с официантом. Он достает пачку “Житан”, закуривает.
– Посмотрите на этих рантье… Он уже минут десять выбирает вино. Полюбуйтесь на это боа, на эту бабочку! Они ходили на Мольера во Французский театр, а теперь пора немного закусить. Он проспал весь спектакль, но зато – в кресле, в котором спал еще его прадед. И так – каждое воскресенье…
– Какой Французский театр? Август месяц, все на каникулах.
Девушка ухмыляется:
– Вот эта пара? Жан-Мари, ты попал пальцем в небо. Это господин Жиру, инженер у “Ситроена”, член партии. На “Ситроене” очень сильная ячейка, коммунисты есть среди инженеров…
– Все равно, меня тошнит от их буржуазных манер… Как сказать по-русски haut les mains?
– Руки вверх… – сообщает Пьер.
– Rouki ver! Un roux qui est vert…[1] Забавно.
– В Алжире русских нет.
– Чешское судно с оружием задержали? Значит, и советники из Москвы сидят в штабе. Где пахнет жареным – русские тут как тут…
Николь пожимает плечами:
– Ты повторяешь клевету буржуазной прессы.
– Да? Ты забыла, что писала “Юманите”, когда русские танки вошли в Будапешт? Информацию можно было получить только из буржуазных газет.
– Ерунда! В Венгрии была настоящая контрреволюция…
– Николь, ты больше роялистка, чем король.
– Ты не понимаешь, что Советский Союз – единственная реальная надежда рабочего класса!
– Счастливец… – вздыхает Жан-Мари. – Ты увидишь Кремль, Мавзолей Ленина…
– Балет Большого…
Николь хмурится:
– А я думаю, Дюрану в Москве придется нелегко. Компания у него – буржуазная, абсолютно правая.
– Ну почему? Парни из Сен-Клу – скорей левые…
– Все ребята из Эколь Нормаль, которых я знаю, – это всё буржуа… Но мы все-таки на тебя надеемся. Нужны прямые связи с советскими товарищами…
– Когда ты уезжаешь? – спрашивает Пьер.
– Завтра. Ночью уходим из Марселя. Мы расстаемся, надо выпить по стакану. Гарсон! Шабли, пожалуйста.
– Бокал?
– Бутылку! Почему мне так не везет? Если бы я прошел конкурс, я бы тоже учился в Эколь Нормаль, а через год бы тоже поехал в Россию… Какого черта я должен идти на войну, которую я ненавижу всей душой? Все равно это их земля, надо оставить их в покое и уйти…
– Я так не думаю, – говорит Пьер.
Николь возмущена:
– Ты не согласен с линией партии?
Официант приносит бутылку, откупоривает, наливает на дно бокала. Жан-Мари нюхает вино:
– Пахнет пробкой…
Официант принюхивается к бутылке:
– Извините, месье, мне кажется, запах шабли…
– А я вас уверяю, что пахнет пробкой! Пожалуйста, принесите нам хорошего вина…
– Что за буржуазные замашки! – иронизирует Николь. – Ты насмехался над господином Жиру, а сам?
– Почему я должен пить плохое вино? Да еще за эту цену!
Официант приводит метрдотеля.
– Месье?
– Мы хотим выпить хорошего вина. К сожалению, эта бутылка отдает пробкой.
– Поверьте, это аромат шабли…
– У вас есть шабли пятьдесят четвертого года?
– Разумеется, месье. Но оно в полтора раза дороже…
– Не имеет значения. Я угощаю… Зачем мне деньги в Алжире?
Дождавшись, чтобы метрдотель отошел, Николь дергает Пьера за локоть:
– Так ты считаешь, что Алжир должен оставаться французским?
– Да. Я бы голосовал за генерала де Голля.
– Нет, он совсем рехнулся! Я просто плюну и уйду!
– А пять поколений французов, которые поливали землю Алжира своим потом и слезами? Их кости гниют в этой земле. И вот так запросто взять и вышвырнуть их? Тебе это кажется справедливым?
– Пьерро, ты не замечаешь, как съезжаешь все дальше вправо. Все-таки сказывается, что вы оба из буржуазной среды…
– Это ты мне говоришь? Я работаю с одиннадцати лет. Рабочий класс – это я. Я работал полтора года на заправке и четыре года в мастерской автосервиса…
– Как я ему завидую! – Жан-Мари оживляется. – Я встретил Жюля, он только вернулся из Москвы, с фестиваля молодежи. Там было две тыщи французов – и никакого железного занавеса! Жюль в восторге от русских девок…
– Это все, что он увидел в стране социализма! Жюль всегда был мелким буржуа в душе…
Метр приносит бутылку, демонстрирует ее Жан-Мари, откупоривает, наливает на донышко. Жан-Мари обнюхивает, пробует.
– Отлично! Вот это настоящее шабли…
Он разливает вино.
– Хватит, Николь. Даже Маркс учит, что пролетарий должен уметь расслабиться…
– Никогда Маркс подобных глупостей не писал.
– Ну, может, Энгельс… В кого ты такая строгая?
Она смеется:
– Мама говорит, что я никогда не выйду замуж. Она хотела сделать из меня девушку хорошего общества. Но я выбрала народ.
– Ну, чин-чин! – Он поднимает стакан: – Fare thee well! And if for ever, still for ever, fare thee well…[2] А небольшой поцелуй?
– На Пигаль… – презрительно советует Николь. – Масса вариантов…
– Отказать солдату! Да меня, может, завтра убьют… Последний поцелуй!
– Ну, так и быть…
Она подставляет лицо. Жан-Мари целует ее в губы. Поцелуй затягивается. Она мычит, вырывается, он ее не выпускает. Пьер смеется.
В салоне самолета ТУ-104 объявляют по радиосвязи о начале посадки. Пьер пристегивается, приникает к иллюминатору. Самолет выныривает из облаков, ложится на крыло. Там, внизу, открывается Москва.
Наконец шасси касаются земли, самолет бежит по дорожке.
Пассажиры спускаются по трапу и садятся в автобус.
Пьер переминается в очереди к окошку паспортного контроля. Пожилой, похожий на немца, красномордый господин ныряет в зал. Пьер подходит к окошку, кладет паспорт:
– Здравствуйте…
Из окошка на него подозрительно смотрит широколицый узкоглазый казах в форме пограничных войск. Он то поднимает взгляд на Пьера, то опускает на фотографию в паспорте. Листает паспорт и хмуро спрашивает:
– Какая цель вашего приезда?
– Стажировка в Московском университете…
– Где?
– В Московском Государственном университете имени Ломоносова…
Нагруженный чемоданом и сумкой, Пьер выходит в зал прилета.
Шишмарева, полная блондинка лет сорока с шестимесячной завивкой на голове, сердито отчитывает молодого шофера. В руках у нее табличка с надписью Pierre Durand. Пьер подходит к ней, здоровается. Лицо ее преображается, его освещает широкая сияющая улыбка.
– Добро пожаловать в столицу нашей Родины Москву!..
Она говорит так громко, что люди останавливаются и с любопытством разглядывают Пьера. Он не знает, куда деваться.
Видавший виды “москвич” мчится по шоссе. Пьер вертит головой по сторонам. Мимо мелькают деревянные избы и заборы. Шишмарева сидит рядом с шофером, повернувшись к Пьеру, и не переставая говорит: