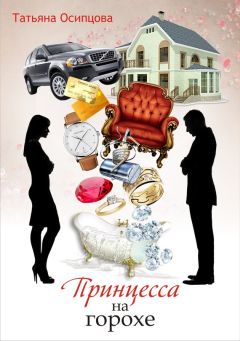Татьяна Осипцова - Утка с яблоками (сборник)
Как дед оказался в Ленинграде, в каком году? Он женился на моей бабушке не позже двадцать шестого. Что могло быть у них общего? Двухметровый музыкант и полиглот, и дочь белошвейки – маленькая, хрупкая, едва полутора метров ростом. Без образования – два класса и коридор, говорила моя мама, – не знавшая нот… Но искренне любившая музыку и имевшая абсолютный слух. В памяти отпечаталось: у нас в квартире появился первый инструмент, пианино, взятое напрокат. Бабушка садится и бойко играет одним пальцем по слуху, практически не ошибаясь, подбирает все подряд. Я так еще не умела, но меня это воодушевило, и я тоже начала подбирать. Играть по слуху стало получаться даже лучше, чем по нотам. Очень скоро бабушка умерла, я тогда только пошла в школу. Мне она помнится старенькой, горбатенькой, ростом уже ниже меня, первоклассницы, с провалившимся ртом и носом крючком, немного похожей на бабу-Ягу. Было ей всего шестьдесят два года.
А на фото двадцатых годов бабушка совсем молодая. Очень выразительные, «византийские», как на иконах богоматери глаза, короткое каре слегка вьющихся волос, бархатное платье, в вырезе брошка – камея со слоником. На счастье?
В соответствии с любимым маминым выражением, бабушка Женя жила за дедом «как у Христа за пазухой», дома сидела, не работала. Впрочем, тогда замужние женщины не работали, вроде бы даже это запрещено было в период безработицы в конце двадцатых. Во всяком случае, вторая моя бабушка, будучи замужем и пожелав устроиться на работу, предварительно пошла в ЗАГС и развелась, не спросив мужа (законы в этом плане тогда были либеральные). «Мать-одиночку» тут же поставили в очередь на биржу труда и вскоре предоставили место официантки в ресторане. Да, папина мама была женщиной предприимчивой.
А бабушка Женя занималась дочкой и домом, хотя хорошей домохозяйкой не была. Напротив, по семейной легенде страдала рассеянностью и не умела экономить. Возможно, в этом не было необходимости? Дед постоянно ездил по стране с гастролями, с военными оркестрами, да еще ему за звание, должно быть, платили – вот он, красивый, в пенсне и добротной офицерской форме. Наверное, он вполне обеспечивал свою семью. Семья для него была святыней, во всяком случае, мама, видевшая отца не слишком часто, обожала его. И он ее тоже: как светятся его глаза на этом снимке, сколько ласки в улыбке человека, прижимающего к груди полугодовалую дочь…
Его арестовали в 37-м. Где-то на гастролях, далеко, чуть ли не во Владивостоке… За что? «Тогда были репрессии, – коротко отвечала мама мне, девочке. – Но потом разобрались и через два года реабилитировали. Был бы виноват – не освободили бы». Мама искренне верила. В то, что невиновных отпускали, а сидели только виноватые перед советской властью. Верила до конца, до самой своей смерти, и правда, открывшаяся на рубеже девяностых, не смогла ее переубедить. Даже про любимого своего Георгия Жжёнова (мама называла его Гера, они выросли в одном дворе), говорила: «Сидел, значит, было за что, тогда было много врагов народа». «Враги народа», «вредительство» – штампы, вбитые с детства, остались в ее голове навсегда. Она не была сталинисткой в прямом смысле слова, скорее, была аполитичной, и все-таки… Бедная мама.
Когда деда арестовали, ей было десять, что она могла понимать, что ей могли сказать? Причина ареста так и осталась для нее неизвестной. Может, навет? А может из-за того, что родные деда перебрались жить в Бонн? Тогда в армии искали немецких шпионов… Дед был всего лишь музыкантом, но все же офицером. Переписка с Германией – весомый повод для обвинения в шпионаже.
Маленькой я любила рассматривать довоенные открытки из Германии, написанные, естественно, по-немецки. Если быть точной, не совсем открытки. Фото, а на оборотной стороне линейки для написания адреса и POSTE CARD или что-то в этом роде. Сейчас и их нет, многое пропало…
Бабушка Женя осталась одна с десятилетней дочерью на руках. Не имея ни образования, ни специальности, ни работы. Позже она служила счетоводом в домоуправлении. Устроилась тогда? Не знаю, вряд ли. Жен репрессированных не больно брали на работу, если верить литературным источникам. Две ее сестры и престарелая мать едва ли могли оказать серьезную материальную поддержку. Помогал друг деда, Абрам, который жалел бабушку, а может быть, и любил. Во всяком случае, к моменту возвращения деда родилась Розочка, моя тетя. Дед был благодарен другу, что помог выжить его семье.
После ареста он больше не выступал, преподавал пение и немецкий язык в двух школах неподалеку от нашего дома. В одной из них училась мама, потом моя сестра, и я тоже.
Дедушка умер в первую блокадную зиму, в январе 42-го. Сколько тогда составляла суточная норма хлеба для служащих и иждивенцев – 125 грамм? Раньше помнила наверняка… Как мало говорят сейчас об этом. Один раз в год, в день прорыва блокады.
Дедушка был вегетарианцем, он и при мирной жизни отличался худобой, да еще двухметровый рост. При таком пайке сил хватило ненадолго. Родные не хоронили его, бабушка с тетей лежали, а моя мама, четырнадцатилетний дистрофик, еле двигалась. Приехала похоронная команда, собиравшая трупы, и увезла деда на Смоленское кладбище – оно было ближе всех.
Оставшиеся после деда музыкальные инструменты выменивали на хряпу (верхние капустные листья), а еще на столярный клей, который долго разваривали и он тоже шел в пищу. Партитурами топили печку. Рояль распилили на дрова. С пятого этажа семья перебралась на первый, вроде бы остатки жильцов со всего большого «немецкого» дома на Детской улице Васильевского острова уместились в одной квартире. В этом доме жили «немцы». Помню Елену Францевну с первого этажа и Люську Тике из нашей квартиры. Внешне она была похожа на цыганку, но потом оказалось, что у нее в Германии родственники, они даже помогали ей материально, потом, в перестройку, когда уже можно стало помогать. В блокаду от голода у Люськи умер грудной сын, она закрыла его в комнате и ушла, чтобы не слышать разрывающего сердце плача. А совсем недалеко был дом, где жила женщина, съевшая своего ребенка, мама мне окна ее комнаты показывала.
В моей семье выжили все, кроме деда, хотя никто не покинул город.
Вот и все, что я знаю и помню, и еще то, что додумала, опираясь на смутные детские воспоминания. Мама часто рассказывала мне о своем отце. Она находила, что я похожа на него. У меня с детства обнаружился слух, и я с четырех мечтала стать «роялисткой» – не в смысле сторонницы королевской власти, а в смысле игры на рояле. Я ей не стала, хотя очень любила играть, и сейчас иногда играю.
Дед, прости меня… Я должна была посвятить себя музыке в память о тебе. Ведь так же, как и ты, я могу заплакать от красивой мелодии. Когда-то погружение в мир звуков было самым большим удовольствием в моей жизни… Прости, дед, что не стала ни музыкантом, ни певицей. Но любовь к музыке перешла мне в наследство через твою дочь, мою маму. Несмотря на отсутствие музыкального образования, она знала наизусть все оперетты, многие оперы, симфонии, концерты. Едва заслышав по радио первые несколько нот, она всегда спрашивала меня, шести-, семи-, восьмилетнюю: «Откуда это?» И если я не знала – а я очень быстро запоминала, – отвечала сама: «Это ария герцога из «Риголетто», «Это «Травиата», «финальная ария из «Чио-чио сан»…«Сильва»… «Принцесса цирка» и так далее…
Дедушка, мама, если вы слышите меня там, где вы сейчас, знайте, я благодарна, что мне открылся бесконечно прекрасный мир музыки, что я научилась ее понимать и чувствовать, что я не глуха к ее красоте.
Я люблю вас. Я буду помнить о вас, пока живу.
2009 г.