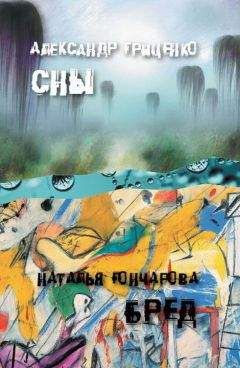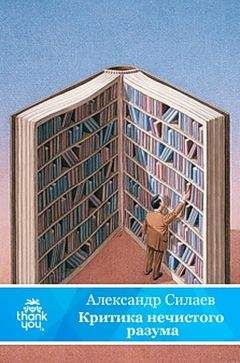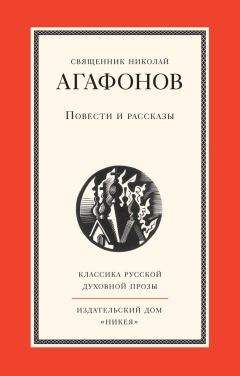Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
…Вернувшись вечером с работы, я с порога ощутил – к моему приходу Ирина готовилась с особым тщанием. С кухни пахло жареной курицей, из дальней комнаты звучал мой любимый концерт «Битлз», да и сама Ирина выпорхнула навстречу свежая, прихорошенная, сияющая, будто не было между нами никакой распри. Напротив, везде царило ощущение праздника.
Ирина повисла на мне, обвив мою шею локтями так, чтобы не запачкать лоснящимися от стряпни руками ни мои волосы, ни костюм. Орошенная французской косметикой, она поцеловала меня долгим многообещающим поцелуем и прошептала:
– Я очень люблю тебя. Сама не знаю. Такое со мной впервые. Давай никогда не ссориться. Это невыносимо больно.
– Согласен, – сказал я, ощущая, как начинаю таять под ее чарами. – Я тоже люблю тебя. Но если, – взыграл во мне природный огонь Овна, – ты еще раз хоть когда-нибудь напомнишь мне, кто посадил меня в редакторское кресло, я перестану оставлять в этом доме свои следы.
– Не злись, – еще раз нежно поцеловала меня Ирина. – Не забывай, я тоже кентавр, и когда срываюсь, иду напролом, а значит, вполне могу наделать глупостей… Все! – мигом перестроилась она. – Марш в ванную. Ужин почти готов.
Раздеваясь, я успел заметить: на столе в гостиной, в изящной вазе стояли в томном ожидании три бархатных вишневых розы, а рядом с ними красовалась нарядная, в золотом переднике, бутылка Шампанского. Атрибуты примирения были налицо.
Я залез в ванну, и некоторое время лежал в теплой воде, давая расслабление телу и нервам. Но стоило мне закрыть глаза, и Ольга снова возникла передо мной, как некий укор или материализация моей больной совести.
«Зачем ты ушла? – в который раз спросил я. – Все было бы чище в моей жизни. Проще, чище и светлее. Пусть был бы я беден, как Коля Родинов, но с тобой я был бы Ветром, способным переносить каплю росы или бабочку за черту горизонта и видеть то, что недоступно другим».
«Не осуждай меня, – сказала Ольга. – Я не могла не уйти. Это крест. – Она протянула мне маленький золотой крестик на тонкой, почти невесомой цепочке. – Носи его. И неси. И мы будем всегда неразлучны».
«Кто же ты? – спросил я, не открывая глаз. – Богоматерь? Ангел?»
Но образ моей тайной любви уже растаял, не осталось и следа.
Ощутив легкую тяжесть в ладони, я открыл глаза и обнаружил в руке настоящий золотой крест, продетый в настоящую золотую цепочку.
Я надел его на шею вместо серебряного, вылез из ванной, и кто-то во мне произнес:
«Яко Боготечную звезду, честную икону Свою тебе показала еси, Владычица Мира».
«Зачем же ты соединила меня с другой?» – спросил я сквозь потолок дальнюю высь.
«Наблюдатель да наблюдает, – был краткий ответ. – Делай, что делаешь. Твори добро на пути своем и воздастся тебе».
В дверь уже стучала Ирина.
– Ты не уснул там часом? Ужин стынет. И я соскучилась.
«Что ж, – подумалось мне. – Значит, так угодно Наблюдателю».
Я брызнул на себя из одного из многочисленных флаконов, приобретение которых было страстью Ирины, набросил халат и вышел из ванной.
– М-м-м… – вожделенно простонала жена, уловив исходящий от меня запах любимого ею одеколона. – Я бы прямо сейчас сорвала с тебя халат, – призналась Ирина. – Но ты голоден, милый. Желания – на замок. Садись за стол.
И снова пришла безумная ночь, со вздохами, стонами и криками блаженства от Ирины.
Но Ангела с нами не было. Я понял, что Его никогда и не будет. Надлежит либо смириться, либо оборвать все сразу.
Утром Ирина веселым щеглом порхала по квартире, готовила на кухне завтрак, заливаясь модной, противной мелодией.
Я лежал в кровати и с тоской думал о дальних странствиях, – не командировках с авторучкой в руке, а о каких-нибудь таежных переходах, сплавах по быстрым рекам или восхождениях на снежные вершины. Однако всего этого не предвиделось ни в каком обозримом будущем, и мне подумалось, что, как бы ни была высока моя миссия борца за настоящую литературу, я могу и не выдержать.
Потянулись долгие резиновые дни, которые я старался заполнить до предела, завалив себя работой, потому что считал заплечный крест святым. Я чувствовал некий долг перед теми, кто достоин и нуждается и, конечно, перед Наблюдателем. Перед теплой и далекой, как мечта, Ольгой.
Вечерами я добирался до своей рукописи, зависая иногда над нею до утра. Тут я перемещался в другой мир, где все – прошлое, настоящее, будущее, живые и выдуманные герои – сливались в некий плотный сгусток, текуче разливавшийся по страницам. Эта образная магма по воле воображения застывала на бумаге и становилась реальностью.
Ночи, гуттаперчевые ночи, прошитые цветными огнями эротической сетчатой лампы, напоминали батут, на котором мы с Ириной были похожи на ловких спортсменов, кувыркавшихся и так, и сяк.
Иногда мне казалось, что я люблю жену, потому что изысканнее в любви, нежнее и темпераментнее женщин не встречал.
И все же… Того единства тела и души, какое было с Ольгой, с Ириной не получалось. Я понял, что в «танках» не могут рождаться волшебные, неповторимые слова.
…Я заглянул в круглое окошко иллюминатора. Внизу, под благодушным сентябрьским солнцем, мирно лежало обширное российское пространство, которое уже обожгла очередная революция-перестройка, рассекла тело земли на кровоточащие части, где жители остались без работы и средств к существованию, с одним только голодным страхом загнанных зверей.
Однако пока что рычаги и поршни старой машины дышали, двигались, следуя во многом ущербной, но отлаженной деятельности, уже опаленной жадным дыханием демократов Запада и Востока. Россия, как добрая баба, лежала в сиянии солнца и все ждала в извечном томлении своего единственного суженого, кем бы он ни был. Социализм зримо осыпался, как дом в землетрясении.
…Разрыв с Ириной произошел внезапно и закономерно, очевидно, по воле Наблюдателя, карающего за грехи наши.
Я давно, чуть ли не с первых дней, заметил, что госпожа Снегирева любит блеснуть в обществе, поиграть, пококетничать и тем обратить на себя внимание. Но мне нравилось и даже льстило, когда мужчины откровенно любовались ею, хотя я и предполагал, что это любование рано или поздно может перейти черту.
В тот злополучный день я должен был улетать в плановую командировку к известному писателю, чтобы обговорить с ним и подписать договор на его книгу.
Взят был билет на самолет. Ирина собрала мне вещи в дорогу. С утра, попрощавшись с женой, я с небольшим багажом отправился в издательство, откуда к пяти вечера должен был ехать в аэропорт. В том городе, куда я летел, меня уже ждали. Но часов в одиннадцать прозвенел междугородний звонок, и сестра писателя срывающимся от волнения голосом сообщила, что мой автор с обширным инфарктом попал в больницу, стало быть, командировка откладывалась. Как мог, я постарался успокоить горюющую женщину, пожелал скорейшего выздоровления писателю и повесил трубку.
Какое-то время я сидел, погрузившись в некое печальное безмолвие чувств и мыслей, ощущая лишь тоску от скоротечности бытия. Потом я подумал, что нужно спешить с собственной рукописью, ибо никому не ведомо, что с тобой будет завтра и что числит за нами Наблюдатель. Затем я позвонил в общежитие Литературного института и попросил передать Николаю Родинову, что вышла верстка его книги и ему необходимо прибыть в издательство, дабы вычитать свежие страницы.
В четвертом часу явился запыхавшийся Коля в старом, на последнем издыхании, свитере. Весь он был взлохмаченный и напряженный.
Я попросил секретаршу принести нам кофе и, обняв Николая, искренне радуясь за друга, вручил ему верстку.
Секретарша принесла кофе, подозрительно глянула на Николая и с вежливым «пожалуйста» поставила поднос на стол.
У Коли сильно дрожали руки, он чуть не пролил кофе на одежду.
– Пил? – бестактно спросил я Николая в лоб.
Он посмотрел на меня с сожалением, как на чей-то искореженный велосипед, брошенный за ненадобностью у дороги, и неожиданно треснувшим голосом сказал:
– Зачем она умерла?
– Кто? – холодея, произнес я, поскольку глаза у Николая были безумны.
– Нина. Моя героиня. Мне так не хотелось, чтобы она умирала.
Я понял, что предо мною сидит один дух человека, а сам Коля Родинов совсем недавно погибал и принял смерть вместе со своей героиней. Потому-то столь трагически сильны были его страницы, написанные не чернилами, а кровью.
– Так распорядился Наблюдатель, – вздохнул я и вылетел на мгновение в форточку, чтобы остыть, под редкий и неспешный снежок за окном.
Николай наконец-то взглянул на меня, как на что-то реально существующее, и поинтересовался, в смущении опустив глаза:
– Мне говорили, я могу получить какой-то аванс, а то у меня уже нет денег на хлеб.
Горький стыд резко брызнул мне в лицо за свой начальственный вопрос: пил ли Николай. Скорее всего, он почти не ел несколько дней, и потому дрожат его руки.