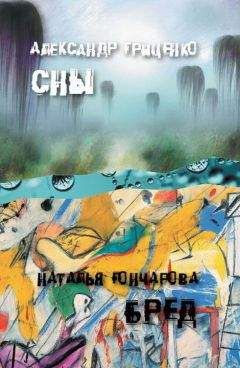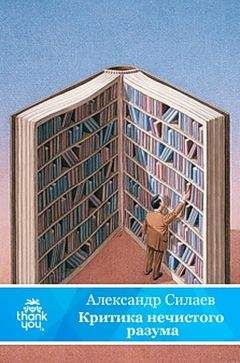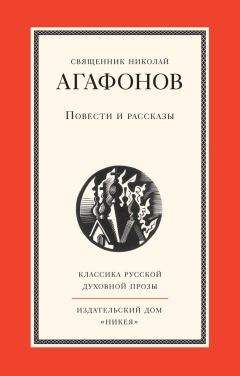Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
У меня был неизвестно откуда взявшийся комплекс боязни посторонних глаз. Тем более в полупустом зале никто не танцевал. Поэтому я натужно поднялся, ощущая неловкость и напряжение.
Ирина же, напротив, не испытывала никакого неудобства. Она вообще обладала завидной для меня способностью не замечать никого вокруг, и потому, легко обвив мою шею руками, смотрела мне прямо в глаза. Ее же смородинные очи излучали томление, жажду и любовь. Эти флюиды передались мне, и я ощутил колючий озноб одновременно с горячим желанием обладать ею. Я успел с тоской подумать, что моя Ольга теперь уже навсегда оторвалась от меня и возврата к ней не будет никогда.
– Поцелуй меня, – сказала Ирина.
Я выполнил ее просьбу. Стесненно, но все же выполнил и сказал:
– Знаешь, я, кажется, влюбился в тебя.
– Все. Едем ко мне, – прошептала Ирина, прижавшись тесно и жарко.
По-европейски обставленное двухкомнатное гнездышко Ирины находилось в самом центре Москвы, в Сталинском доме за спиной Юрия Долгорукова, охранявшего на своем боевом коне приближенных к власти.
…Глядя на бархатный, чуть тронутый цветом осени ковер земли под брюхом самолета, я вспомнил сумасшедшую первую ночь в квартире Ирины, ее горячие с придыханием стоны: «Ты мой! Мо-ой! Я тебя никому не отдам». Потом краткая расслабленность отдыха и снова пылкие объятия, тягучие стоны «Ты мо-ой!», словно я мог быть в тот момент еще чьим-то.
На следующий день я владел солидным кабинетом и штатом сотрудников.
Отец Ирины, известный писатель, секретарь Союза, зашел лично поздравить меня и пожелать успехов на новом поприще.
– Поработаешь, осмотришься, – сказал он голосом шефа, – а дальше… возможно, твое директорство будем отмечать в «Праге», – пошутил Виктор Вольфович, похлопывая меня по плечу. – Так что дерзай, – улыбнулся он и пожал мне руку слабым пожатием слабой писательской кисти. – Все рукописные поступления будешь поначалу согласовывать лично со мной. Ну а я… сам понимаешь. Пока самостоятельности не нужно. Присматривайся, вникай, обживайся. У издательства свое направление, свои планы, свои авторы. Это ты должен хорошо себе уяснить. Понятно?
– Понятно, – сказал я, уразумев, что попал в гетто, стал частью истинно мафиозной системы, которой нет дела до талантливых людей, бьющихся лбом о бетонные стены элитных журналов, издательств и читающих свои произведения на кухне неведомо кому, в никуда.
– Понятно, – сказал я, ощутив, что во мне родился бунтарь. Зверь-младенец, который через неопределенное время разорвет всю эту затхлую паутину на части. Во всяком случае, перекроит работу хотя бы одного издательства.
Конечно, я представлял себе, какая сноровка подпольщика от меня потребуется. Но я был молод и горяч.
Затаив в себе дерзкие планы, я принял шумную свадьбу, где среди дорогих подарков были ключи от дачи в Барвихе и новенькая «Волга» от папы Ирины.
Моя мать, прилетевшая издалека, тихо сидела в уголочке кухни, похожая в скромном, неброском платье среди разряженных гостей на служанку.
Тягучая боль от этого несоответствия разливалась во мне.
«Ну ладно, – скрипел я зубами, – посмотрим».
С Ириной было сложнее. Получалось, я вел двойную игру. Ее слащавые опусы, на которые приходилось закрывать глаза, как будто не мешали упиваться ею ночами. Днями же, на работе, мне приходилось играть роль тайного разведчика, обязанного быть предельно собранным, не имеющего права на ошибку.
Так или иначе, я вынужденно следовал до затаенной поры всем требованиям литературной мафии, непререкаемым и установленным ею на долгие времена.
– Почему ты не издаешь свою книжку? – спрашивали меня маститые, панибратски похлопывая по плечу. – Пора, дружок. Пора выходить на орбиту.
Они поверили мне и считали: я с ними заодно. Что я – свой.
– Рано, – отнекивался я. – Моя книга еще впереди. Я слишком придирчив к себе.
– Ну-ну, не опоздай. Время скоротечно.
«Сладкий обман» Ирины вскоре был напечатан вне очереди.
Она влетела ко мне в кабинет, сияющая, со свежим номером журнала.
– Поздравь, – сказала она и, откинув назад роскошные шоколадные волосы, подставила душистую щеку для поцелуя.
Я коснулся губами ее щеки, ощущая, как недобрый мстительный зверек шевелится у меня внутри, потому что банальнее и пошлее повести Ирины трудно было придумать.
Черный ворон с омерзительным, торжествующим криком слетел с ветки дерева за окном.
– Поздравляю, – сказал я холодно.
– Ты, кажется, не рад? – врастяжку произнесла Ирина, и в черничных с прозеленью глазах ее блеснул злой огонь.
– Отчего же, – пожал я плечами. – Танки идут ромбом. Это, как установлено знатоками, победная тактика. Треугольником, ромбом, тетраэдром, – не знаю, еще чем. Ромбом ломятся многие. Ромбом пытаешься двигаться и ты. А понимает ли Ирина Снегирева, что ее опус «Сладкий обман» – слащавая однодневка, о которой завтра никто не вспомнит. Или рождение в писательской семье дает тебе непременное право тоже быть писательницей? И никем другим. Наследственной писательницей. Генетической, так сказать.
Я знал, что сорвался, что не имел во исполнение своих планов права на срыв. Но во мне сидел дикий, клыкастый кабан, и остановить его было невозможно.
Повисла жуткая, тяжелая пауза. Ирина закурила.
– Ладно. Прости меня, – решил унять я бешеный топот своих копыт. – Ты прекрасный, грамотный редактор. Ты чувствуешь любое произведение на вкус. Можешь дать единственно верный совет, как сделать, чтобы работа автора засияла, даже если она почти безнадежна. Но стоит тебе самой сесть за стол, куда все улетучивается: тонкое осязание, обоняние литературы, ее фосфорические переливы, выдержанность стиля. Ведь у тебя талант, редкий талант прекрасного редактора! И как ты им распоряжаешься? Ты его просто не замечаешь. Он тебе не нужен. Ты – писательница! Садишься и, как из тюбика, одним махом выдавливаешь на страницы какую-то пресную кашу, которую лицемерно хвалят и, морщась, едят твои знакомые. Да и то – чайными ложками. Давясь, но улыбаясь при этом: ах, как вкусно!
– Да, мальчик, – процедила Ирина с металлом в голосе. – Ты набираешь темп. И речь у тебя литая, и место соответствующее. А не забыл ли ты, кто посадил тебя в это кресло. Ты кто такой, чтобы обсуждать меня, Снегиреву? Сам-то что написал? Ничтожество.
Этого я стерпеть не мог. Меня подбросило прямо к Ирине, и я жестко ударил ее по щеке, не отдавая себе отчета, не понимая, как могло случиться, что я впервые в жизни ударил женщину. Это было против моих правил. Но случилось. А что случилось, того не вернешь.
– Дрянь, – бросила Ирина и вышла из кабинета на танковом ходу, пробив насквозь две кожаные двери.
Я сознавал, что, укоряя Ирину, грызу себя. Что-то не ладилось у меня с моей собственной рукописью в последнее время. Редакционные игры отнимали много сил и времени. Служение муз не терпело суеты, и потому внутри стояло тошнотворное ощущение, словно мне пришлось проглотить грязную портянку.
Я подошел к окну. В белесых небесах, среди деревьев, приютилась моя тонкая, прозрачная Оленька. Лучезарная, неповторимая.
– Что же ты наделала? – спросил я. – Зачем ты бросила меня? На кого?
В ответ Ольга грустно улыбнулась и растаяла, как снежинка.
Я так и не понял – был ли это святой образ Богоматери или образ моей единственно любимой по-настоящему женщины. А может быть, и то, и другое вместе.
…– Отстегните ремень, – улыбнулась мне стройная стюардесса и помогла справиться с железной пряжкой. – Мы давно взлетели.
…В тот вечер я домой не пошел. Прихватив пару бутылок вина, колбасы, хлеба, консервов, я доехал на тряском троллейбусе до общежития Литературного института и при помощи своего внушительного удостоверения проник в комнату старого приятеля, пятикурсника Николая Родинова, безуспешно пытавшегося когда-то опубликовать в журнале «Октябрь» свою замечательную, талантливую повесть. Но кто был для Главного редактора Николай Родинов? Никто. Пустое место. Рукопись была отклонена, несмотря на все мои старания поместить тогда повесть на страницах издания. В ходу были «Сладкие обманы» и всякая производственная чушь от придворных Союза Писателей. Более того, из-за Николая Родинова у меня с Главным произошла настоящая ссора. Настоящий, можно сказать, бой. Скандал, который мог лишить меня и работы, и места на литературной сцене. Да и вообще – будущего. Танкист, – так про себя я называл командующего журналом, – танкист был мэтром. Он был фронтовиком. Военным писателем. И неважно, что его унылую прозу мало кто читал. Он был на Олимпе. Он был в чести у Руководства. Танки носились по его страницам знаменитым ромбом. И это было в чести Наверху. Впрочем, он и сам был Руководством. А кто был я? Сопливый редакторишка. Вчерашний студентик. В принципе, как и Родинов – тоже никто.