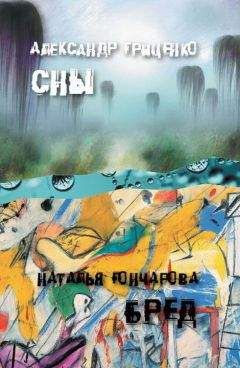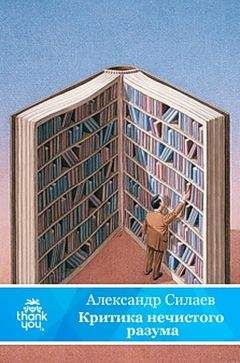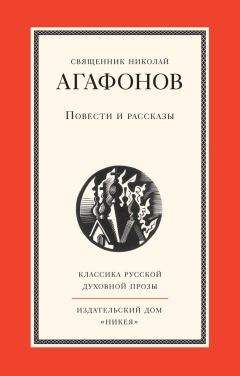Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
– Значит, ты не получал денег после подписания договора? – всполошился я, ощущая на себе ядовитую плесень вины еще и за то, что не довел в нужный момент Николая до желанного для него окна кассы. Круг моих авторов хорошо знал эту проторенную дорожку. Я выпустил из вида, что Коля среди них – белая ворона.
– Тогда я не смог, – как бы извиняясь, сообщил Коля. – Попал, видишь ли, в больницу с язвой. Хорошо, успел дописать повесть.
– Прости, не знал… – мертвым голосом признался я, ощущая себя полным подонком. – Ты бы хоть позвонил из больницы.
– Там был один телефон, и тот – с оторванным ухом.
Я представил себе больницу, в которой лежал Коля, и не в силах больше держать груз собственной вины, резко сказал:
– Пойдем!
Мы прошли в бухгалтерию, и я попросил выплатить Николаю Родинову аванс.
Коля, похожий на сомнамбулу, механически расписался в ведомости, видимо, совершенно не задумываясь о том, какие цифры в ней обозначены, и под чем подписывается. Лишь когда он открыл конверт, поданный кассиршей, с крупной надписью: «Родинову Николаю Александровичу» и достал кругленькую сумму, Коля выпучил глаза сначала на деньги, потом, безмолвно, на меня. Взгляд его говорил: не ошибка ли это?
Я похлопал его по плечу и улыбнулся.
– Все в порядке, Николай Александрович. Теперь поехали со мной.
Я усадил новоявленного писателя, оглушенного невиданной суммой, в подарочную «Волгу» и мы покатили сначала в агентство аэропорта, где я сдал билет на самолет, а затем, по моему предложению, остановились возле попутного магазина «Мужская одежда».
Через полчаса Николай вышел оттуда элегантным красавцем, чей вид красноречиво говорил о достатке и положении в обществе, и пока мы дошли до машины, я заметил, как заинтересованно смотрят на Николая женщины. Все старое тряпье мы просто затолкали в мусорную урну.
– Теперь на почту, – попросил Коля. – Пошлю немного тетушке в деревню.
Больше у него никого не было. Воспитывался Николай в детдоме.
На той почте, откуда Коля выслал деньги родственнице, мы положили большую часть суммы на его первую сберегательную книжку.
За дверью новой, необычной для Николая жизни, где он всего стеснялся: своей новой дубленки, галстука под ярким шарфом, блестящих туфель и норковой шапки, всего своего импозантного вида, который требовал иной походки, осанки, иных жестов и взглядов, за этой тяжелой, скрипучей дверью меня вдруг обуяла жгучая радость победы. Николай Александрович Родинов воссел на трон, хотя и сидел на нем, как на золотом ведре. Я видел, что ему до зуда в теле хочется содрать с себя все новое и облачиться в прежнюю, поношенную одежду, в которой ему было и уютнее, и теплее. Дух простоты неброских полей, темных изб и серых озер с детства насыщал кровь этого человека, и выветрить его было невозможно. Просто тогда Родинов не был бы Родиновым.
– А не отметить ли нам это событие? – запинаясь, спросил Коля.
Я улыбнулся.
– Конечно, Николай Александрович. Вот только закатим мою кобылку в гараж. Иначе я не смогу поднять за тебя бокал.
– Так это твоя? Личная?
– Моя, – вздохнул я с чувством постоянно шевелившихся внутри неловкости и горечи, словно мне случилось где-то украсть мою «Волгу», а не получить в подарок.
– М-да, – многозначительно выразился Коля. – Я тоже себе какую-нибудь куплю со следующей книжки. Путешествовать люблю – хлебом не корми. В детстве, бывало, уйду куда-нибудь за поле, за речку, в лопухи. Они теплые от солнца и дорожной пыли. Хорошо! Ничего не нужно. А вот сейчас нужно. Мечтаю дом купить в деревне. Это – прежде всего.
Я закрыл машину в гараже, и мы с Николаем отправились в Дом литераторов, дабы справить там праздник его посвящения в писатели.
Дом тонул в ярком свете люстр, но люди в нем были похожи на чопорные тени, обремененные неясными мыслями. Они таинственно переговаривались о чем-то, якобы, значительно возвышенном, на самом же деле – пустом и никому не нужном. Обитатели Дома жили в ногу со временем, не спеша, сыто и уютно кормя себя до отвала закулисными играми и литературными сплетнями. Разумеется, это не касалось больших имен и тех безызвестных, кто делал настоящую литературу вопреки всему.
Николай решил шикануть и предложил ресторан.
Проходя мимо кафе, я заметил в углу Ирину. Она сидела к нам спиной в окружении мужчин, тех, кто в свое время дарили льстивые поздравления по поводу «Сладкого обмана».
Один из обожателей наливал ей «Шампанское». С неприятным чувством я поскорее проскочил небольшой зал кафе, чтобы не быть замеченным. Не хотелось привлекать чье-либо внимание к нашему с Николаем торжеству. В конце концов, это был только наш праздник, его и мой. Его, потому что Наблюдатель не пожелал обнаружить имя Николая Родинова лишь после его смерти, как это часто и бывало в российской литературе. Мой же – оттого, что я в нужный момент не спасовал и отстоял рукопись Николая перед монстрами издательского бизнеса. Понятно, известную роль сыграло то, что я был мужем Ирины Скворцовой, не пожелавшей в связи с браком менять фамилию. Как же, она была Скворцова! Мое же имя не говорило ни о чем. И все-таки я вырвал талантливую книгу. Впрочем, после этого сам Скворцов, будучи все же неплохим писателем, по-отечески похлопал меня по плечу, похвалив мою твердость, настойчивость и самостоятельность. Но его похвалу я принял пока за холодный весенний ветерок, лишь только шептавший о грядущей весне. Так или иначе, вышедшая живая верстка будущей, уже неотвратимо набиравшейся книги никому доселе неизвестного Н. Родинова, книги с теплым названием «К солнцу и назад» явилась первым подснежником, ясным напоминанием о том, что весна все-таки существует, что она есть и ее можно дождаться.
Мы с Николаем нырнули в дубовую бочку известного ресторана и, выбрав столик в дальнем углу, уселись друг против друга. Мне не особенно нравилось, что Николай избрал помпезный и чопорный Дом Писателей, но это, по большей части, был его праздник. Его право голоса в данном случае значилось первым.
Коля делал угощение. Он заставил официанта призадуматься, что бы такое поизысканнее, повкуснее, а главное – побольше нам принести. Вскоре стол был завален всякой снедью на пятерых с коньяком и «Шампанским».
В новом, дорогом костюме за обильным столом Николай был похож на молодого купчика, отощавшего в дальних походах за прибыльным товаром.
Я был рад, что он обрел наконец некую раскованность и свободу личных проявлений, и ни в чем ему не препятствовал. Я понимал: человеку хоть раз в жизни нужно почувствовать себя вольной, сильной птицей, готовой к любым перелетам.
Коля лихо выстрелил пробкой и разлил «Шампанское» по фужерам. Руки его уже не дрожали. Он перестал быть рабом обстоятельств.
– Ну что же, Николай Александрович, – торжественно сказал я, поднимая бокал. – При твоем нынешнем виде тебя иначе и называть как-то неудобно.
– Да брось ты, – смутился Коля. – Честно говоря, в этих шмотках я себя ощущаю мужиком в юбке. Все пялятся. Не привык.
– Чепуха. Привыкнешь, – сказал я. – Главное, чтобы из тебя не выветрился Господь. Вот за это и хочу выпить. Чтобы твоя вольная прописка в мире не поменялась.
Коля на мгновение задумался. Голубые глаза его подернулись грустной поволокой, сотканной, конечно, из дождей, цветов и серебряных туманов детства.
Мы звонко чокнулись, и я искренне добавил:
– Я очень рад за тебя, Никола. Теперь ты на коне. Не сходи с орбиты ни при каких обстоятельствах. Ты был распят, а сегодня воскрес. Вникни в это. Удачи!
Николай выпил и набросился на еду, как коршун. В общежитии он питался дареным табаком и случайной селедкой.
– Знаешь, как меня называли в детдоме?
– Откуда мне…
– Родиной. Родина, сегодня ты моешь полы. Дай фонарик, Родина. Или: спроси у Родины, он знает. Правда, смешно?
Я улыбнулся и пожал плечами.
– Я всегда все знал, Олег. Потому что любил читать и сочинять. Луна у меня была рыбой из Черного моря. Туманы ползали на корточках, а ветер ночевал в дальних стогах. Словом, чуть что – спроси у Родины.
Коля рассмеялся, и я с удовольствием отметил, что весь он засиял какой-то новой краской. Пробудился и засверкал.
– Потом я ходил по Оке матросом на маленьком катере. Со спичечный коробок. Но мне нравилось. Нравилось, что на мне тельняшка. В ней я шастал на танцы. Влюблялся, дрался – все в тельняшке. Нравилось лежать на палубе и смотреть то на облака, то на звезды. Славно было. Я даже радовался, что один-един на всем белом свете. Но это, конечно, была больная радость… Если вдуматься, хорошо ли, что человек один? Вот она, куча денег в кармане, а мне даже некому что-либо подарить. Любил девчонку одну с нашего курса, но она, – видно, судьба такая, – уехала как-то на летние каникулы и больше не вернулась. Прислала письмо подружке, мол, влюбилась по уши и вышла замуж. Уже беременна. Стало быть, зачем ей институт, литература? У женщин все по-другому. Иногда мне кажется, что я до смерти буду один. Может, нам так назначено? А?