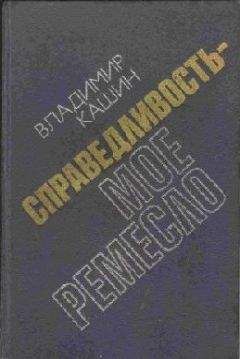Екатерина Марголис - Следы на воде
прочла Маша Степанова, прошлогодний поэт-лауреат Фонда Бродского.
Вечер закончился чтением английских стихов Бродского в итальянском переводе. «Моей дочери». «Анне на днях исполнится двадцать», – сказала перед чтением вдова Мария.
Give me another life, and I’ll be singing
in Caffè Rafaella. Or simply sitting
there. Or standing there, as furniture in the corner,
in case that life is a bit less generous than the former.
Yet partly because no century from now on
will ever manage
without caffeine or jazz. I’ll sustain this damage,
and through my cracks and pores, varnish
and dust all over,
observe you, in twenty years, in your full flower.
On the whole, bear in mind that I’ll be around. Or rather,
that an inanimate object might be your father,
especially if the objects are older than you, or larger.
So keep an eye on them always, for they no doubt
will judge you.
Love those things anyway, encounter or no encounter.
Besides, you may still remember a silhouette, a contour,
while I’ll lose even that, along with the other luggage.
Hence, these somewhat wooden lines in our
common language83.
И тут, едва были произнесены слова об общем языке, над головами собравшихся загудел колокол. Это не было предусмотрено: скорее всего, просто в этот час на колокольне Мадонны-делл’Орто бьют колокола. Но, с другой стороны, дело было, конечно, не в часе. Колокол гудел и гудел, отзываясь в каждой арке и в каждом закоулке. Он плыл над шелками и крышами, над лагуной, над лодками, над куполами. И мы все узнали этот протяжный голос, раздвигающий скулы, строчками на родном языке. Он просто отвечал колокольным звоном.
Я не знала тогда, что это был девятый день по Франко. Но и сегодня, уже зная все, спрашивать, по ком звонил колокол, тем более бессмысленно. It tolls for thee. Они с самого начала были связаны. С того самого дня, как мы, едва познакомившись, искали вместе набережную Неисцелимых. А он, не читавший тогда еще ни строчки Бродского, насмешливо спросил: «Ну что там пишет твой поэт – небось, что вода равняется времени? Для всякого венецианца это очевидно».
Теперь неисцелимым оказался Франко.
Буксир, фонд, дети, фотовыставка удивительной девочки Маржаны, и ее обращение ко всем нам, и той же зимой детская выставка фонда «Подари жизнь» с названием, которым так гордилась, – «Видимо-невидимо», и ночная выставка Алены в московском хосписе с пожарником Игорем… – я столько лет хожу рядом… Но за какие-то грехи мне не дано было оказаться в венецианском хосписе. Не знаю. Видимо, не заслужила.
Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидать
мои слезы и жалкое горе.
Будет. Еще как будет.
В тот последний раз мы виделись мельком семь лет назад. Что-то сосало под ложечкой, и всю неделю я невольно просматривала объявления о смертях, которые вывешивают на стенах домов. Ровно в эти дни я встретила его в вапоретто на Бурано. Он улыбнулся и, как обычно, без предисловий сказал: «Вот ездил в город чинить метроном. Что-то в ритме сломалось. Но теперь все в порядке», – и, словно в подтверждение своих слов достал его из холщовой сумки. Метроном стал ровно отбивать ритм. «Адажио», – автоматически отметила я про себя.
– Так вот – положили его в хоспис. – Габриэлла (или Грациана? – я впопыхах и не запомнила) поправляет волосы. Ставит лейку. Трет веко. Я уже тоже не притворяюсь. На слове «хоспис» я инстинктивно вздрагиваю от всех этих странных сплетений, но вовсе не потому, что она подумала, а она принимается успокаивать: – Да ты не бойся (можно ведь я буду называть тебя на ты?) – это прекрасное место. У него была отдельная комната с отдельным bagno (итальянка – она остается верна себе), и балкон, и окно с видом на лагуну. Ты же знаешь, как он любил море. Каждый день про свою лодку спрашивал.
– А, прости, – не спросила даже, как тебя зовут.
– Катерина, – говорю я машинально и, лишь произнеся имя, понимаю, что называю то имя, которым звал меня он. Больше меня в Италии так не называл никто. Да я и не позволила бы. Катя и Катя.
– Ну так вот, Катерина, я приходила часто – как могла. Но вообще там за ним хороший уход был. Телевизор…
Она снова поправляет волосы.
На слове «телевизор» становится совсем невыносимо… Мы смотрим друг на друга и видим расплывающиеся силуэты.
– Да, Катерина, это жизнь… Я дочка его тети. Наши мамы сестры – мы вместе росли. Теперь наш Франческо – вон там. – И она машет куда-то неопределенно за калитку. – В сентябре он уже не вставал. Я отвезла его на почту – в кресле. И сказала: «Франко, что делать-то будем?» Ну и решили про хоспис. Жена подала заявку… Я приходила, навещала. Он вообще хорошо себя чувствовал. Ну, в смысле, не вставал, но не болело ничего. Двадцать восьмого мая мне позвонили. Сказали, приходите – пора.
Она принимается подробно по часам описывать последний день. Но знать это никому не надо.
– Он ушел. Ну, жена прилетела. Мы все сделали как нужно, как положено… – продолжает она с деревенской гордостью, а на глазах слезы. – Ты приходи еще, когда она приедет. Она рада будет. Вот друзья приходили когда – она радовалась.
Жаль, мы ничего о тебе не знали. Мы бы позвонили раньше.
Она записывает телефон. Розовые кусты. Лейка. Разноцветные стены. За калиткой течет поток туристов. Кто-то останавливается – фотографирует.
– А похоронили где?
– Да вон тут – на соседнем острове – на Мадзорбо. Ты не знала, что у нас есть свое кладбище?
– Нет. А как я его там найду?
– Ну войдешь – и сразу налево. И там дальше такой кусок земли – как пустырек, несколько метров, а за ним ряд могил, и вот в следующем – ну как в этом углу, где ведро, – она показывает в угол палисадника.
– А до какого часу открыто?
– До шести. Тебе, наверное, не успеть. Сейчас почти пять с половиной.
– Я успею. Спасибо. Огромное спасибо.
– Да что там, – она машет рукой. – Заходи, когда будешь на Бурано. Я, вообще-то, тут редко бываю. Просто сегодня решила приехать – цветы полить. А так я в Венеции живу – на Фондамента Нуове.
Я тебя всегда кофе напою – так и знай.
Мы почти обнимаемся, но все же в последний миг стесняемся, – и это так и остается – полуобъятием-полурукопожатием.
Я бегу – вот причал – вот причаливают – я в вапоретто. Успею…
Гудок парохода. Длинный, протяжный. Прощальный.
А на следующий день ноги сами несут куда-то по раскаленному городу. Хоспис – «Fatebenefratelli» – действительно через дом от той самой Мадонна-дель’Орто, где звонил колокол. Собиралась постоять-посмотреть и уйти. Но прежде чем успела опомниться, была уже в просторном сводчатом зале при входе. Приют и больница тут еще с XVI века. Думала, что побуду тут под сводами и уйду, но, не успев даже сообразить, что делаю, обнаружила, что уже стою напротив портье, объясняя ему все как есть и спрашивая, как пройти в хоспис.
Меня пустили. Прошла галерею, у сада повернула – лифт. Лязгающий, железный. Поднялась. Помедлила в коридорчике. Голоса. Цветочки. Пластик. ДСП. Синие дверки, желтые стенки. Детсад. Тоска. Все устроено-отлажено. Все такое аккуратное изнутри. Как в шкафу. Дождалась проходящей темнокожей сестры. Латиноамериканка или малайзийка – не разобрала. Она улыбнулась дежурно-приветливо, думала – родственница. Я заговорила, пытаясь сбивчиво объяснить цель своего прихода, которой и сама не знала. Выражение ее лица изменилось.
– Мы не даем информацию о пациентах, – сказала она железным голосом.
Я объясняла путано, сбиваясь:
– Да, я знаю… Вы правы, конечно… Я не знаю, чего я ищу. Может, догнать, прикоснуться (вложить персты – подумала про себя). Не знаю. Я и сама много отношения имела к больницам, и к хоспису, и вообще – я все понимаю. Но я сейчас не на сильной стороне. И я просто прошу… мне важно хоть что-то… Мне не нужно никакой информации – поверьте. Я только хочу узнать… правда ли у вас комнаты выходят на море. И можно ли взглянуть. Ну, на ту комнату… В окно…
– Нет, ничего нельзя. Поговорите с родственниками. И на море у нас ничего не выходит. И все комнаты заняты – у нас пациенты.
Я сказала «спасибо», зашла в лифт и стала спускаться.
Слезы бежали без остановки. Доехали до первого этажа.
Я вышла. В лифт зашла нянечка, толкая перед собой лязгающую тележку с судками.
Она остановилась в дверях, почему-то оглянулась и спросила, обращаясь ко мне, совсем по-библейски:
– Что ты плачешь? Кого ты ищешь?
– Кого я ищу, здесь нет, – ответила в такт сквозь слезы.
Зажав тележку в лязгаюших дверях, она еще раз пристально глянула мне в глаза и спросила:
– Ты по Франческо пришла?
Я кивнула.
И снова заплакала.
– Я сразу поняла, что ты к нему… – Она осеклась, не найдя подходящего глагола. – Я не медсестра – я тут просто нянечка, обслуживающий персонал. Он у нас много месяцев провел, и я его хорошо узнала. У нас было хорошо, мне кажется, – продолжала она. – А потом резко так ему поплохело. А до этого он все на разных инструментах играл. Все просил ему прино-сить инструменты…
Я вслушивалась в ее простую певучую речь, пытаясь угадать, что же он играл. Своего ли буранского соотечественника островитянина Галуппи? Венецианские рыбацкие песни? Или что-то другое?