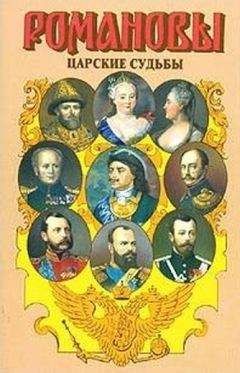Маргарита Олари - Хорошая жизнь
После развода с отцом, мама начала бежать одиночества. Она работала переводчицей в театре, где часто проходили премьеры. Премьеры неизменно сопровождались фуршетами, банкетами и простыми посиделками с бутылкой за кулисами. Нужно отметить премьеру. Нужно отметить премьеру. Нужно отметить премьеру. Не знаю, сколько актеров и актрис спилось еще тогда, когда я ходила в первый класс. Мать отмечала премьеры с режиссерами и актерами, потом с костюмерами и гримерами, потом с осветителями, а потом с уборщицами. Это было тоскливое время, время моего отрочества. Мне все еще хотелось думать, что с моей жизнью все в порядке, даже несмотря на развод родителей. Но с ней было не все в порядке. Самыми отвратительными были субботние и воскресные дни, когда отец приводил меня в театр и оставлял ждать мать. В двенадцать ночи мне удавалось ее найти, я брала ее под руку и вела к улице Ленина. Мы ловили такси, ехали домой, на самую окраину Кишинева. Один рубль двадцать копеек. Столько стоила поездка до дома. Один рубль двадцать копеек. Один в один, всегда. Может быть, такси не въелись бы так прочно в мою память, если бы однажды мама не поскользнулась. Она упала и ударилась затылком об асфальт, когда мы подходили к машине. Я и сейчас помню этот звук, звук от удара головы об асфальт. Стоя в засохшей крови, я слышала его. Видела обмякшее, беспомощное тело, родное, мое. Чувствовала ужас и жалость. Без любви.
Ведра нужно было приносить и уносить, если маме плохо, если ее тошнило. Я носила ведра, старалась не думать о том, что все это похоже на страшный сон. Мне нужно было выжить, пока нужно было выжить матери. Ей было плохо, и становилось все хуже. Ей совершенно не хотелось оставаться дома, и тогда она начала пропадать днями, потом неделями. Все что поддерживало меня в то время, это школа с обедами, мелочь на полбатона и зеленый чай. Я засыпала в зимнем пальто и сапогах, потому что некому было топить печь, утром умывалась ледяной водой из колонки во дворе, наспех стирала воротнички и манжеты, гладила пионерский галстук и школьную форму, все, готова. Беспечное лицо, новый день. Рита, почему твоих родителей нет на родительском собрании. Потому что они очень заняты.
Став старше, я вспоминала то время с содроганием. Не понимала, как можно выдержать и полгода в таких условиях. Но вряд ли тогда я сердилась на свою мать, скорее нет. Только в четырнадцать лет, устав от вопросов классной руководительницы, от поисков и ожидания, я пришла к отцу и сказала, что теперь буду жить с ним. Бабуся потребовала лишить мать родительских прав и настояла на том, чтобы меня передали под опеку отца. Я не вспоминала о матери до тех пор, пока не встретила ее в центре города. Она собирала на площади окурки. После того как я стала жить с отцом, ей больше не нужно было создавать иллюзию заботы обо мне, но эта исчезнувшая формальность оставила ее без тормозов. Вид матери, собирающей окурки, настолько меня потряс, что я договорилась встретиться с ней и принести деньги. С тех пор и до конца ее жизни я буду обеспечивать ее деньгами, едой и лекарствами. Перестану давать матери деньги из-за того, что она их пропивает, начну приносить больше продуктов, но это не поможет. Она начнет обменивать продукты на алкоголь. Следующие пятнадцать лет мама проживет с человеком, которого очень любит. С тем, кого я ни разу не видела трезвым. С тем, кто изобьет ее, если она откажется прописать его в своей квартире. С тем, кто изобьет ее, если она откажется давать ему деньги. С тем, кто, избив ее до полусмерти, придет к ней в больницу не для того, чтобы навестить ее, а для того, чтобы попасть в больничную столовую. Рядом с мамой и ее сумасшедшей любовью он достигнет вершины скотства. Когда он уйдет к другой, мама от тоски перестанет пить, но когда он вернется, с ним вернется ее прежняя жизнь.
Когда я просила Веру не употреблять спиртное, Вера сопротивлялась и всегда отправляла меня тщательно рассматривать комплекс, приобретенный мною в детстве. Действительно, я не переношу пьяных женщин, но пьяная Вера это больше, чем пьяная женщина. Ведь она богиня, богиня не может много пить. У богини не могут трястись руки, богиня не может потерять лицо. У богини не может быть взгляда алкоголички. Если бы Вера была Огородниковой, вряд ли я стала бы волноваться относительно спиртного. Только Вера нисколько не Огородникова, и будучи богиней, Вера никак не хочет на помойку, Вера помойки сторонится. Да, выпить любит, а спиваться на помойке не хочет. Вера, убитая мыслями о депрессии, шатаясь, стояла на кухне в новогоднюю ночь, отпивала из бутылки лютую настойку, кричала мне и своим детям, что главное в жизни не чистые зеркала. Не чистые зеркала, не порядок в доме, не стопкой сложенные полотенца, не это, не аккуратно и чисто. Главное, говорила Вера, чтобы здесь что-то было, и стучала себя по грудной клетке. Мы не хотели смотреть на Веру, мы отворачивались и закрывали лица руками. Но я не отворачивалась, глядя на пьяную Огородникову. Аккуратно и чисто, это действительно не главное. Главное, уметь сказать, стань такой как я или не становись такой как я. Даже обмочившись при нас, даже напившись так, что можно только наружу, а внутрь нет, Огородникова произнесет слово, и мы поймем свою ущербность в сравнении с ней. Потом Вера подумает, а, подумаешь, мне все равно, что обо мне подумают. Но поскольку аккуратно и чисто действительно не главное в жизни, Вера считает, ведь должно быть внутри что-то. Чтобы «родиться раз и навсегда» или чтобы внедрить репрезентативность. Для Огородниковой ничего не должно было быть внутри, кроме того, что внутри есть. Внутри, в грудной клетке, в сердце. Не нужно показывать где, нигде больше, только там. От этого у Гали все были славными, а у Веры одни дефиниции, и славные далеко не все.
Пять лет назад я пришла к маме отговорить ее прописывать у себя того, с кем она прожила вторую половину своей жизни. Ничего хорошего из этого разговора не вышло. Я понимала, что у матери почти не осталось времени. Струпья на теле, посиневшие губы, постоянные побои. Мне оставалось смотреть на нее и ждать конца. Но в этих условиях у меня был выбор, смотреть или не смотреть. И я сказала, мама, выбирай, он или я. Мама даже не думала. Я его люблю, возмущенно ответила она, а ты мне не дочь. Эти слова ничего не перечеркнули, они подвели черту. Я слышу их так же, как и звук удара головы об асфальт. Мать кричала, они поедут в Румынию, откроют собственное дело, и еще всем нам покажут. Она тоже стучала в грудь, говорила, там есть что-то. Что-то такое, чего никто из нас не видит.
Потому что не пить, это не главное, главное, чтобы там что-то было. Но ничего кроме боли там не было. Ничего.
Мама прописала свою любовь в крошечной квартире. Вписала, пыталась удержать. Пыталась показать, что она хозяйка своей жизни, никто им не помешает. Им никто не помешал. Он убьет маму спустя два дня после того, как получит прописку. Ударит ножом в грудь и оттолкнет, но умрет она не от этого. Падая, мама ударится головой об угол стола и разобьет голову. Маму нужно было спасти, ее можно было спасти. И кто-то другой спас бы, только не любовь всей ее жизни. Ее любовь выбежит из уже своей квартиры, а мать пролежит на полу до тех пор, пока соседи не взломают дверь. Полгода мамину любовь будут искать, еще полгода судить, но любовь избежит наказания. На суде так и не будет доказано, что смерть наступила из-за ножевого ранения. Человек, третировавший мать пятнадцать лет, светлая ее любовь, останется свободным. Тот, кого я ненавидела, но кормила пятнадцать лет, будет жить, а моя мать нет. И еще три года разные люди будут наступать на пятна крови, думая, что это краска. А потом краска покроется слоем пыли, как и все в этой квартире, как и мое прошлое.
Стою в центре вселенной, вспоминаю детство. Спрашиваю себя, ради чего. Спрашиваю, мама, ради чего ты терпела то, что терпела. Ради чего легкий старт, быстрый старт, беспечная жизнь. Ради такой счастливой жизни. Ради такой напрасной смерти. Безумие будет длиться. Мама, твое лето никогда не закончится.
Когда я узнаю о том, что мать умерла, мне станет дурно. Я стану жалеть о непроизнесенных словах. Тех словах, которые мы уже никогда друг другу не скажем посреди этого хлева, в отсутствии хлеба и любви. Мне никогда ничего не было нужно от матери. Никогда и ничего. Мне даже не нужно было знать, что она вдруг бросила пить. После ее смерти я пойму, что все же кое-что мне было нужно. Знать, что мама меня любила. Это все. Только любила бы. Только бы любила. Мне хотелось этого всю жизнь. Просто взаимного тепла. Просто чтобы она была у меня, просто чтобы я была у нее. Чтобы не расти, пропитываясь ядом безразличия, не учиться мучительно распознавать своих. Мочь верить людям сразу и безоговорочно. Среди невозможной красоты этого мира, как-то раз и навсегда научиться любить так, чтобы этого не отменить.
Чистый доход
На свете много людей, поссорившихся с родными и близкими из-за чайного сервиза, который они считали настоящим. Упорствующих в поисках большого и светлого чувства. Отстаивающих право быть теми, кем они решили быть. Почти все они достаточно поздно прочли на дне своих чашек информацию о стране-производителе, почти все как-то упустили это из виду. Даже если тщательно вглядывались, почему-то очень не хотели поверить в то, что написано. Таким образом, никто не хотел знать правду. Все хотели любить, быть любимыми, быть счастливыми любой ценой. Шли недели, месяцы, годы, а мы хотели и хотели любви. Никакой опыт нас не учил. Иногда мы долго переживали, но чем сильней и дольше мы переживали, тем сильнее были наши чувства в новых отношениях. Кто-то работал челноком, возвращаясь назад, пытаясь штопать порванное, прикоснуться, увидеть, услышать. Кто-то уже не хотел ни слышать, ни видеть, шел вперед и только вперед. Кто-то в это время раздумывал над тем, что проще было бы застрелиться. Кто-то уже успел повеситься. Некоторые оставшиеся в живых похожи на покойников, некоторые покойники не отпускают живых, нам не уйти отсюда здоровыми. Все мы работаем на фабрике по производству любви, без выходных, двадцать четыре часа в сутки. Без отпусков и пособий по инвалидности, до конца дней. Выпускаем то, что сами потом покупаем. Наш товар не залеживается, не успевает, он пользуется бешеным спросом.