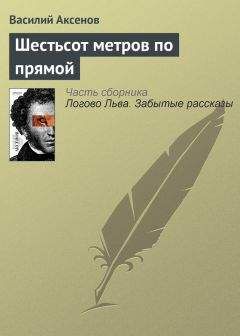Дмитрий Раскин - Хроника Рая
– Я рад, как вы изволили выразиться, прислуживать, ибо «прислуживаю» в меру сил великому народу, – Коржевский задыхался, но решил произвести впечатление кротостью и выдержкой, – Вы просто-напросто не хотите видеть, милостивый государь, что нами движут добро и любовь. Любовь и Добро.
– А вот этого не надо! Я могу еще вынести вашу злобу, но на ваше добро и на вашу любовь сил моих просто нет.
– Насчет злобы не торопились бы. – Коржевский любил себя самого во гневе. Любил подходить к собственному гневу мелкими шажками. – Не торопились бы по незнанию, – это даже хорошо, что вы у нас появились, – голос его теперь уже звучал вполне зловеще.
– Что? Уже нужен враг? Очевидно, для сплочения пятерых из диаспоры вокруг журнальчика? Чтобы ваши активисты совсем уже не покрылись плесенью от бездействия.
– Вы малодушны до непристойности и боитесь жертвы. Это я не про евреев, что ж вы так всполошились. Да! Нации придется пожертвовать своей вседозволенностью, которую вы (и такие как вы) считаете свободой. Собственным правом на бесчестие (вот вам косвенная цитата), без которого для вас нет свободы выбора, тоже придется пожертвовать, правом спать с особью своего пола придется поступиться, да-с. Вашей склочной разноголосицей мнений, без которой, как вам кажется, уважаемый, не может быть свободной истины. Но даже, если бы вы и правы (на секунду, при всей абсурдности, разумеется) – Истина выше свободы, превращающей ее в истину, что пишется с маленькой буквы и все чаще во множественном числе. А Нация выше Истины и Свободы. Потому как именно Нация – Истина и Свобода.
– А Бог? – спросил Вологжин.
– Христос выше нации. Но он пребывает, о-существляет себя, сутствует в нации. Он больше Истины, глубже свободы и воплощает себя в Нации.
– Именно это я и ожидал услышать. Обожествление народа и низведение Бога до уровня племенного божка – вот ваша точка встречи русского народа с Христом! Вы зазываете в царство самодовольного Духа и деспотичной, капризной, мстительной Истины. Но племенного божка, если что, разбивают о камни. И это было уже в России. Было! И вы обязаны знать. Не имеете права не знать. Мы должны стать другими самими собой. Это трудно, наверное, страшно. Но видимо, последний шанс для нас… Усилия личности в пространстве свободной мысли, благодаря которому Культура и Дух не являются заложниками самих себя… В социальном же, в историческом нашем бытии – мужество быть свободным, умение быть в свободе, не какой-то абсолютной, мифической, мистической, но в той, которая сейчас. Если всего этого нет, то будет стадо – унылое и злое. И ваши мистические завывания впотьмах.
– Почему вы так боитесь, что мы возродим былое величие русского народа? – едко осведомился Коржевский. – Чего испужались-то так? – сказал он подчеркнуто по-барски.
– Вы возрождаете только любимые наши видения (они, между прочим, и не девались никуда). Сквозь них, конечно, приятно видеть мир и себя самих. Но за них никто уже не собирается умирать, да и просто жертвовать хоть чем-то, (вы и сами это прекрасно знаете), но видеть реальность так мы собираемся, уже кажется, до самого кирдыка.
– Прости ему, Господи, – демонстративно начал креститься Коржевский, – ибо не ведает…
– Вы торговец галлюциногенными грибами. Из тех, что сами примут убойную дозу, дабы развеять сомнения публики: «Смотрите, господа покупатели, благодать-то какая!»
– А я понял, – величественно рассмеялся Коржевский, – почему вам, любезный дали визу, – и тут же сорвался на визг, – вы, и такие, как вы, а имя вам легион, развалили Державу, а первые попытки отстроить хоть что-то заново объявили предательством ваших идеалов, которые, оказывается, еще и не начали воплощаться! Вы ненавидите Россию, ненавидите русского человека и при этом хотите признания ваших прав, паразитируя на нашей всечеловечности и открытости. Не слишком ли жирно будет! Вы, я позволю себе теперь уж прямую цитату из классика, вы – бес.
– Только после вас, – улыбнулся Вологжин.
– Нет, именно вы! Все вы! Вы! – тряс крючковатым пальцем Коржевский. – Ас бесами вообще-то поступают…
– Методом окропления? Или вы имеете в виду нечто более материальное?
– Можете понимать в меру вашей трусости, – усмехнулся Коржевский.
– Я тоже позволю себе цитату из классика: подите вон!...\ Из черновиков Лоттера \
Я пишу для своих не-читателей
Висенте Алейсандре
Я пишу
ни-для-кого
и потому для абсолютного читателя,
или же не читателя,
ничего, лишь бы был абсолютным…
Я пишу
ни-для-кого
И потому получается, что вот для женщины,
что покупает сейчас в супермаркете снедь и всячину,
опустошенность прожитого дня
стала отсветом на лице усталом…
Для влюбленных,
что сейчас в ожиданье трамвая,
полны
этим своим худосочным бытием.
Для тех, кто навстречу мне.
Для тех, кому я вослед и не успеваю.
Для тех, кто для меня лишь деталь пейзажа, не более,
будь это безлюдная улица на рассвете или
город на самом излете дня.
Для тех, чье счастье и чью тоску,
чью усталость от хода жизни,
чье сознанье бытия
я разделить способен только отчасти, поверхностно
и торопливо.
Мы нужны, чтобы были и время, и вечность, и смерть
в их последней ущербности,
непостижимой для нас,
недостигаемой ими.
Мы – блик,
эти плывущие, трепетные, обрывающиеся разом
блики света,
которого нет…
Я пишу
ни-для-кого,
то есть для всех, но связанных самой прочной на свете
связью
под названьем одиночество.
Я пишу
ни-для-кого,
то есть Бытие, если ему вдруг нужно,
сможет считать с моих путаных строк
само себя.
Просить не о чем.
Надеяться не на что.
Так и дóлжно.
Я верно знаю это теперь.
Вернее, чем другое что.
Я пишу
ни-для-кого…
здесь же \
Убрать из стихов все.
И если все же останется что-то
(как поэт написал когда-то)
Это и будет поэзия —
исток мышления, мысли
и их предел.
Исток и предел той музы/ ки неслышимой
бытия, смысла, слова —
их суть,
та глубинная, трепетная, непосильная им самим.
Это и есть поэзия,
что сама, конечно же, не
мышление, мысль, бытие, смысл, слово, безмолвие…
Высвобождает их
в саму себя —
в свою светлую безысходность…
здесь же \
Убрать из стихов все.
И если все же останется что-то
(как поэт написал когда-то)
Это и будет поэзия —
исток мышления, мысли
и их предел.
Исток и предел той музы/ ки неслышимой
бытия, смысла, слова —
их суть,
та глубинная, трепетная, непосильная им самим.
Это и есть поэзия,
что сама, конечно же, не
мышление, мысль, бытие, смысл, слово, безмолвие…
Высвобождает их
в саму себя —
в свою светлую безысходность…
на полях \
Стих все-таки глубже слова. Потому как он попытка слова и попытка безмолвия, и подобие искупления этой своей самонадеянности – напиши его.
Ее невозможно было не узнать и со спины. Анна-Мария Ульбано в пространстве мегаполиса. Прокофьев не сразу понял, что она идет тем же самым маршрутом, что и в прошлый раз. Неужели он опять пойдет за ней, быть может, попадая в свои же тогдашние следы на этих тротуарах? Опять будет смотреть, как она пьет кофе, глубокомысленно курит, отражается в витринах, застывает над каналом? Так и не оторвется от нее до самой ночи? Можно, конечно, успокоить себя тем, что он просто проверяет свои силы, выдержит ли такую прогулку, хочет, дескать, доказать, что восстановился после болезни полностью. Зачем он идет за нею? Знает же, что нет никакой тайны! (Скорее, что нет.) Но эта полная повторяемость, до каких-то мельчайших деталей… казалось, именно это притягивало сейчас. Он поразился сам своей внутренней дрожи, попытался высмеять самого себя. Это ее одиночество, ее тоска – только поза, доведенная до автоматизма или вообще придумана им-Прокофьевым. Эта ее прогулка, будто какая-то эффектная долгая пауза. Все, что она ни делает, получается так – будто пауза. Анна-Мария сама и есть пауза (наконец-то он понял). Но пауза, как бы длинна и эффектна она ни была – она всегда между… Но здесь только пауза, а того, что она разделяет, нет и не может быть у нее. Почему эта ее «прогулка» так детально, неестественно так повторяется? Она будто бы раз за разом торит себе тропу в этом пространстве, чтобы не заросло прохожими, причинами, следствиями, жизнью. Или ему опять только кажется так? Надумал эту чрезмерность повтора, пугающую даже. Просто у женщины свой маршрут… ну да, то же кафе и за тем же столиком, точно также цедит свой бокал белого. И все это с тем же самым выражением лица и для того же самого зрителя по имени Анна-Мария Ульбано. Ну и что, собственно? Что?! Он вдруг понял, что по этим улицам, по этим камням уже бессчетное множество раз ходил за нею и бессчетное множество раз еще пойдет. Вот такой жутковатый эротизм дурной бесконечности… А если бы Анну-Марию дали сыграть актрисе какой-нибудь? (Прокофьев перелистнул в уме список различного рода кинодив) – выигрышная роль, разумеется. Эффектная. Столько стиля, шарма. И все вертится вокруг нее. В фильме было бы так. Но весь пыл актрисы и режиссера ушел бы на все эти ее чулочки, перчатки, меха и вуали (то есть время действия – только осень). А глубину, скрываемую ею, пугающую даже, они не осилили б, подменили бы парой-тройкой киношных клише. Ее морщинки у глаз, наверняка бы убрали, опошляя тем самым ее обаяние, выхолащивая эту ее, придуманную Прокофьевым глубину.