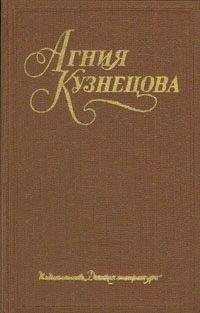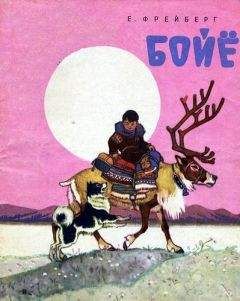Евгений Орел - Баклан Свекольный
«…уже троллейбусы уходят спать…»
«Хм, откуда это? – на ходу задумывается Фёдор. – А, ну да, старая советская песня [39] ». Улыбнувшись чему-то приятному из далёкого детства, он мурчит сначала про себя, а затем и всё громче вслух:
Луна над городом взошла опять,
Проходящие мимо две девушки опасливо отстраняются «от пьяни, а то ещё приставать начнёт». Федя придурковато гыгыкает им вслед, и песня возобновляется:
Уже троллейбусы уходят спать…
Память даёт сбой, и вместо слов опять мугыканье:
Плывут в дома воспоминания,
Слова любви, слова признания,
«М-г-мг…» – и тут вылетело из головы, а может, никогда там и было.
Ещё две строчки на «мур-мур-мур»… И дальше почти по тексту:
Они – тепло моё весеееннее,
Моя… как его там… фигня какая-то… мх-мх-ееееение;
Моя надежда и спасеееение.
Пока я помню – я живууууу!
Пока я помню – я живууууу!
Пока я поооомнююю – я жииииивууууууу!
Последняя строка протягивается трижды. «Певец» умело копирует стиль Магомаева, внешне только: голосом похвастаться ему сложно.
Вокруг почти ни души. Навстречу спешно идёт женщина средних лет, в руке сумочка. По привычке Федя оценивает прохожую, как потенциальную партнёршу, но уловив разницу в возрасте, быстро теряет к ней интерес.
Они почти поравнялись, когда из ближайшего двора, наперерез, выбегает молодой человек. Выхватив у женщины сумку, он уж собрался улепетнуть.
Федю будто встряхнуло, так что и весь хмель куда-то подевался. Бросив портфель на асфальт, он бегом за грабителем:
– Стой! Стой, падла! Отдай сумку!
В несколько широких шагов он догоняет негодника. Схватив его правой рукой за воротник, разворачивает к себе лицом и наносит прямой удар левой. Кулак приходится в район глаза, соскальзывает, но этого достаточно: грабитель распластан на смежной с тротуаром травяной полосе.
Вор-злодей Фёдору больше не интересен. В нарочито пафосной манере сумочка возвращается испуганной, но благодарной, владелице.
Позади слышится приближающийся топот. Федя не успевает обернуться, чтобы посмотреть, кто это так спешит и не с ним ли жаждет увидеться…
Сильнейший удар по макушке – и всё перед глазами плывёт…
В голове мутнеет, чувствуется жуткая боль. Противное тепло растекается по волосам. Кровь? Ну да, «в наших жилах кровь, а не водица», по привычке на память приходит цитата к месту.
В свете уличных фонарей он успевает разглядеть чёрную куртку и спортивную шапочку. Точно такие, как на том кренделе, что давеча крутился у входа в институт. К нему ещё подходил Саша, Ленкин друг, что грозился с Федей разобраться…
Что там они говорили?
Отчётливо всплыло из ниоткуда:
– Он точно входил, но не выходил…
«Неужели?» – вопрос виснет на остатках сознания.
Только грабитель тут при каких делах? Наверное, попал в «сценарий» чисто случайно.
Крики, просьба вызвать «скорую», кто-то настойчиво твердит, что тут рядом телефон-автомат и надо срочно позвонить в милицию.
А дальше – темень, пустота…
Глава 27. На нитевидном пульсе
Суббота, 9 октября 1993 г.
Время – 00:01.
Инспектору, прибывшему с милицейским нарядом из двух сержантов, вскоре становится ясно, что дело – «висяк». Улик – ноль. Грабитель пришёл в себя и успел улизнуть. Связь между ним и нападавшим уловить невозможно: не за что зацепиться. Фоторобот не составить из-за скудности показаний «потерпевшей» – таковой инспектор считает женщину, хотя на ней ни царапины, да и сумочка ей благополучно возвращена.
Во мраке ночи, разбавленном неярким светом уличных фонарей, Баклановым занимается бригада «скорой», вызванная больше по инструкции, чем ради воскрешения покойника – стражи правопорядка не сомневаются, что «парень курить бросил навсегда», как дежурно выразился один из сержантов.
Голова разбита чем-то тяжёлым и, похоже, металлическим. Удар большой силы, очень большой. Врач Павленко навскидку оценивает состояние больного – не больного, живого – не живого:
– Кажется, всё, – говорит, – надо вызывать спецмашину.
– В смысле труповозку? – уточняет инспектор.
– Ну да, – неохотно подтверждает эскулап, морщась от названия вещи «своим именем». По его команде бригада налаживается ехать на следующий вызов.
Но не тут-то было.
Юная фельдшерица сомневается. Девушка едва не плачет, глядя на смазливого молодого мужчину, так жестоко искалеченного и, похоже, бесславно погибшего. Или погибающего?
Странная реакция медработника на тяжёлое состояние больного. Могла бы уже ко всему привыкнуть, хоть и на «скорой» – без году неделя после медучилища. На учебной практике, конечно, ходила на вскрытия, в реанимацию, наверняка не обошла вниманием и неотложку, и травмпункты, но так и не научилась воспринимать чужое горе, как… чужое . Всё ей надо через себя, через душу пропустить!
Возможно, столь глубокое сострадание к пациенту отчасти восполняет нехватку опыта и даже пробелы в знаниях. Пальцы у фельдшерицы оказываются более чувствительными, чем у доктора, что позволяет ей нащупать едва уловимый пульс.
Вызов труповозки отменяется, к неудовольствию руководителя бригады «скорой». Непонятно только, чем он так расстроен: то ли тем, что пациент «ожил» и его нужно будет приводить в стабильное состояние, то ли тем, что недавняя выпускница-медсестра оказалась точнее в распознании признаков жизни.
В общей суматохе едва слышно приглушённое рычание доктора Павленко по адресу младшей коллеги:
– Таня, ну кто тебя за язык тянул?
– Что вы такое говорите, Иван Иванович? Ведь он жив! – сестра милосердия не приемлет чёрствости Павленко, с которым у неё непрерывный конфликт на почве отношения к пациентам.
– Да кто там жив! Он же вот-вот коньки откинет! И его повесят на нас: скажут – не довезли. А так бы считалось, что приехали, когда он уже был покойник. И вообще, дорогая, давай не будем портить наши показатели, хорошо?
– Иван Иванович, как вы можете! Вы же доктор! – сквозь слёзы возмущается Таня. – Его можно спасти! Он жив! Разве вы не видите?!
– Ты понимаешь, у нас срочный вызов! Там пищевое отравление, и того человека мы уж точно спасём! А ему, – указывает на Бакланова, – одна дорога, она же и последняя.
По пути в Городскую больницу скорой помощи Танины глаза не сходят с мокрого места. Она живо радуется, как только Федя хотя бы ненадолго приходит в себя и не сдерживает слёз, когда он снова «теряется».
Чувство близкой смерти кажется Фёдору нереальным. Всё думает – сон кошмарный, только пробудиться никак не может.
Ему вспоминается, как он спас кошку, подвешенную малолетними уродами на крыше девятиэтажки, как поставил на место шайку подонков, наводивших страх на едущих в метро. Память больше ничего выдать «на-гора» не успевает: Федя снова отключается.
Новый «приход в себя» – и его сражает сильная головная боль. Ощущение близкой кончины усиливается тем, что несколько субстанций в белых балахонах злорадно, как это кажется, его утешают:
– Ничего, держись! Мы тебя поднимем на ноги.
«Но это же сон! – думает Фёдор. – Сейчас проснусь, и всё исчезнет».
Врачи что-то там колдуют, вены колют, капельницы меняются часто. А маска зачем? Что там? Кислород?
«Неужели это наяву?» – Фёдор с ужасом осознаёт – нет, не снится ему и не чудится. Всё правда, всё по-настоящему. А если это и сновидение, то последнее в жизни.
Не так ему грезилось пребывание на смертном одре. Он хотел, чтобы рядом находились близкие и утешали его искренне, а не профессионально, как эти «белые халаты», и чтобы уговаривали его не умирать. А он бы им: «Нет уж, дудки! Не дождётесь! Вот возьму и сейчас умру!» Эти слова превращают общие стенания в общую же истерику, но в последний момент, когда у всех пропадает надежда вернуть его к жизни, Федя вскакивает и буднично замечает: «Ладно, уговорили, остаюсь». И наступает момент всеобщей радости… Так ему представлялось в детстве и хочется, чтобы так всё и произошло. Но что-то идёт не по сценарию, какой-то сбой в программе… Феде становится жаль, что на самом деле всё сложилось гораздо хуже, чем грезилось.
«Леночка…» – пронзительно-тихим шёпотом имя слетает с губ. Почему он не нашёл нужных слов? Ведь Лена, будучи глубоко стеснительной, совершила невозможное: первая призналась в любви! Среди обывателей такая инициатива осуждается. Как же надо любить этого заносчивого, хоть и в чём-то благородного, хлюста, чтобы переступить через внутреннюю гордость и стереотипы! А Федя даже на йоту представить не мог, чего стоило Лене признание, вот и не оценил её самоотверженность. Проще говоря, лопухнулся. Прав оказался Косых, его однокурсник: Баклан – он и есть Баклан, по жизни такой.