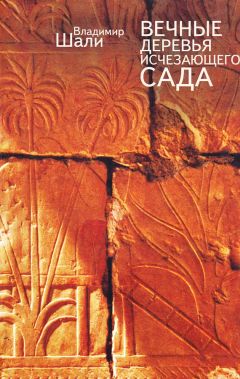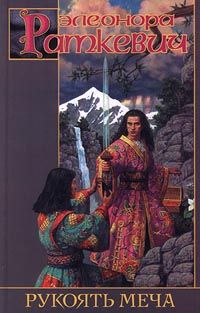Владимир Шали - Вечные деревья исчезающего сада-2 (сборник)
Магия легенды. Послесловие
Есть удивительно неожиданный поэт Владимир Шали, как бы явившийся к нам ниоткуда. Есть мучительные перепады между обессмысленностью жизни и заявленной к финалу поэмы «История одного молчания» верой в музыку. Есть книга стихов «Свобода зрения» – стихов разных лет и десятилетий – и эта юношеская, но лишь сейчас обнародованная книгой поэма.
Есть в этой книге редкий симбиоз стихов поэта и воспалённых красок и видений рано ушедшего от нас художника Алексея Сысоева. Есть родство по температуре и энергии творческого духа, а в стихах заявлено и глубинное родство по этому свойству – «воспалённой спиралью мятежно царствовал Ван Гог».
Что же получается? Любителю лёгкого чтения в этих стихах делать нечего. Есть «музыка огней», в сущности, обеззвученная музыка – видения огней. И есть звучащие и даже кричащие краски: «Ударив в оранжевый гонг, художник в звучанье вернётся»; «Вы только крики, крики, крики, вы птицы сердца моего»; «Зренье моё и слух, всё, что я есть и мог» – зрение и слух взаимообратимы. Поэт видит немую музыку глазами и на слух вылавливает из предвечной тьмы ярко вспыхивающие ассоциации.
Словом, есть много чего в этих стихах, а слова вроде бы и ни причём.
Всё выходит из молчания и в молчание возвращается, ибо есть у него и другая вариация цитированных строк: «Ударив в оранжевый гонг, художник в молчанье вернётся». Это какой-то маятник между молчанием и звучанием. Но вот и место для поэта: «И, победив момент молчанья, предвосхитив момент звучанья, поэт беззвучный Аполлон». В промежутках царствует поэт, на тончайшей грани предзвучанья. Да это ж – ни много, ни мало – своя эстетика, что редкость в нынешней поэзии, развращённой мелочной прозой.
Значит, как это: слова не причём? – «Я верю в музыку огней»?
А не хотите и так: «Уже не веруя, но веря»? Кричащая экспрессия и рядом такие тончайшие оттенки мысли. И только афористичное слово – их хозяин. Веруя или верю, как духовное или душевное, «разноодинаковы». Афоризм или поэтическая формула – это исключительная привилегия слова, а афористика поэта для меня истинное наслаждение:
«В разновеликом океане лиц наш образ разноодинаков»;
«Пуля слепо летит в никуда. И в полёте, как яблоко, зреет»;
«У темноты мы просим света, свет доверия темноте?»;
«Я вдруг понимаю, что вечно живу»;
«Я так устал, что хочется летать»;
«Девочка с мальчиком, что вы искали? Дедушка с бабушкой, что вы нашли?..»;
«Мне садов бегущих не догнать, в них навек ушли отец и мать»;
«Кто посмотрел глазами звёзд на инфузорию любимой»;
«Я тайный сторож, я звонарь, заметивший глухого вора, крадущего слепой букварь».
…и, наконец (а лицезреть цитатную мозаику можно до бесконечности):
«Счастлив, кто на своём веку из восхитительного ямба изгнал четвёртую строку».
Это о себе. И это не формальная новация, а содержательная. Покойный знаток поэзии Адольф Урбан, первым приветивший дарование поэта, объясняет это усечение так:
«Это, по сути, стиховая модель его чувства времени: вечность, закреплённая обручем рифмованных строк и открытой текучей средней.
Она даёт полноту жизненного мгновения настоящего…»
Жить в настоящем веселей.
О нём тоскуют тени в прошлом
И тени из грядущих дней.
И в то же время, вот проклятье:
Искажена моя судьба
В поспешном фокусе мгновенья.
В нелепый вечер сжата жизнь.
Быть может, это и есть главный и мучительный нерв для поэта; и я вспоминаю, скажем, Блаженного Августина: «Но в чём состоит сущность первых двух времён, то есть прошедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет, и будущего ещё нет? Что же касается до настоящего, то, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило из будущего в прошедшее, тогда оно не было бы временем, а вечностью».
И поэт не прощает «жестокой мимолетности мгновенной», и он хочет увидеть «образы прошлого в будущем свете»:
«Была моя вина, что я стоял у входа в иные времена»;
«Я видел сон во времени ином»;
«Я вижу сон, в котором нет меня».
…Сон, галлюцинация, мираж – излюбленные видения поэта.
И это так естественно. Мимолётное мгновение само по себе призрачно. Призрачны вещи, слишком преходящие. Но и вечность сама по себе призрачна, не подцепленная живым мгновением. Что, казалось бы, может быть прочней тысячелетних каменных фасадов. Но птицы, высеченные на их фронтонах, – тоже мираж.
Явь и сон тоже взаимообратимы. Самое вещественное превращается в муляж и галлюцинацию, как древняя мумия или жуткий образ препарированной головы в Освенциме, превращённой в статуэтку: «Здесь я!
На полированном столе у лагерфюрера…».
«Тень всадника заходит в сад… Я подчиняюсь миражу…»
Моментами это похоже на засвеченную плёнку, когда и тени едва видны в знойном мареве пустыни, а то и жёстче, как у самого поэта, – момент, который и вовсе «вырезан из кинолент»: «Когда я слеп в саду, а сад незряч…»
Удивительная афористика! Совершенно не похожая на афористику рассудочной европейской культуры – заточенную, как острый карандаш, до колкой однозначности – эпиграммы или каламбура. Здесь всё наоборот. Афоризм раздваивает жало или распахивает объятья восточной многозначности. Он загадочен, и в нём зерно притчи, пускающейся в буйный ассоциативный рост и совершенно негаданное сближение «далековатых понятий»:
В раскинутом окне,
В дверях, открытых резко,
Явилась в полусне
Расколотая фреска.
И в той щели, и в тех
Щелях, что по соседству,
Был слышен плач и смех…
Тысячелетние миражи и плачи коммуналок, «жизнь на уровне сапог замерзающих прохожих» гденибудь в полуподвале совершенно свободно сопрягаются в сознании поэта. Иногда кажется, что понятия слишком далековаты, связи рвутся, но это не так. Как на восточной миниатюре: «львы прыгают за край листа», так и ассоциации у поэта в нетерпении рвутся за край отдельного стихотворения.
Ассоциативность у поэта гулкая и блуждающая в едином и обширном ассоциативном поле, вариационная. И если вас поразит какоето парадоксальное видение, то вы ещё с ним не раз встретитесь:
«Вертикальная площадь – стена, вверх по ней вертикальная лошадь без наездника скачет одна» – «Каскад зелёный любит небо – в нём вертикальная весна» – «По стенописи вертикальной ползёт полузабытый сад…» Притом такая необузданная «свобода зренья» может вдруг получить совершенно оправданную житейски мотивировку – ну, поскользнулся человек, «а за стеной каток, там перевернулся переулок, поскользнулись миллионы ног, полетели миллионы булок – штампы частной жизни…» Только и здесь штампы частной жизни помножены на миллион, обращены в фантасмагорию и мираж.
Образ может перейти и в культурологическую плоскость: «Смысл готики – сближенье плоскостей и взлёт из пустоты по вертикали…»
А в поэме «История одного молчания» наперекор «горизонтали» дешёвого публичного успеха поэзии, похожей на цирк – «Мой юный друг, никто не виноват, что ты приник к верёвке вертикальной…»
Пафос этой ранней поэмы и многих поздних стихов – взорвать узкие границы нашей жизни или её стены, взорвать молчание, вырваться к яви живой и беспредельной жизни.
«Крик замурованной улитки» – тоже сквозной образ. Как из Сальвадора Дали. Этот «невысказанный, невозможный звук» должен таки докричаться до неба: «Крик замурованной улитки грозу венчает наверху». И когда вы читаете стихотворение с домашним интерьером:
«Потом в замурованный улей проникла ночная звезда» – обязательно вспомните эту улитку, теперь уже человекоулитку…
Так кто же он – поэт, невозмутимый мудрец, скиталец сквозь века и их миражи, облачённый в стилизованные одежды восточной притчи, или ходатай трагической и нервной кисти Босха, ВанГога, Отто Дикса?
Молчаливый созерцатель загадочных метафизических глубин и перво сущностей жизни или романтический бунтарь, подложивший взрывчатку под это молчание и жалкие пределы нашей эфемерной жизни, решивший докричаться до неба? А он и то и другое сразу:
Необходимо одичанье,
Чтобы судьбу свою понять.
Необходим момент молчанья,
Чтобы совсем не замолчать.
Вдохновение, ясновиденье, прозрение, пророчество – вовсе не есть карманный дар, который всегда при тебе. Это всегда импульс и само произвольная вспышка. Они приходят и уходят. И снова приходят, на миг озаряя тёмные подвалы человеческих душ.
Это живая работа противоречивость духа, его мощная у поэта био энергетика, порождающая обжигающие ассоциативные импульсы.
Непредсказуемые! И не подстать ли эта противоречивая работа духа изначальной противоречивости жизни?
Да и кто скажет с точностью, как обстоит дело? Мир изначально гармоничен, как казалось Тютчеву, и только человеку не прорваться сквозь свои диссонансы к этому первоначальному звуку? А может быть, он изначально – «вековечная давильня» и как раз человеку внести в этот мир гармонию, как показалось Заболоцкому? Или мир изначально нейтрален, и это сам человек истязает его своими диссонансами, желая внести в него меру своей гармонии? Любой однозначный ответ примитивен. Вот и у поэта бездонная по смыслу формула: «– не хочется нарушать гармонию больной земли». Больная гармония! Невероятно, но это так. Болезнь и гармония – «разноодинаковы».