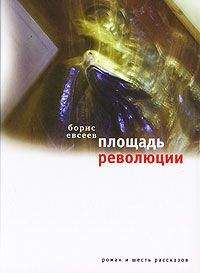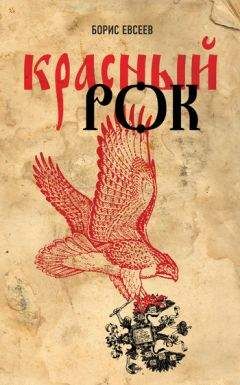Борис Евсеев - Офирский скворец (сборник)
Митька видит, как легким дымком испаряется вода. Видит: можно по водяному пару быстрехонько перескочить в город. Но тут же соображает: речка-то никуда деться не может.
«Дурь, – вдруг понимает Митька. – Нар-р-ркота!» – гремит он смеховым громом. Так гремит, что падают позади и сбоку от него деревья, опрокидываются набок берендеевы домки. «Дурь лекарственную Семен Михеич дал! Ай, доктор, ай, Михеич!»
За спиной Митькиной продолжают падать деревья, разбиваются в щепу игрушечные избы, и старый дурак Берендей, поднимаясь из болота, нестрашно грозит Митьке кривым громадным пальцем, с крупно шевелящейся под ногтем землей. Погрозив, Берендей кричит голосом дядьки Григория:
– Плес! Плес!
И тут же, вслед за криком, ударяет Митьку по ушам дядькина расстроенная мандола и стальным своим высоким звуком рассекает Митькины нервы надвое. А уж под конец вырастает за его спиной громадный, вдвое выше Ипатия, Стас, дышит в спину и по-цыгански орет:
– Лавэ нонэ!? – Плиц-плец. – Лавэ нонэ!? Денег нету? Нет?
Не понимая, как это он спиной видит Стаса, Митька тут же от Ипатия отлепляется, срывается с места, бежит к реке Костромке. А ее – хоть и стала она теперь узенькой – никак не перейдешь! Не может добраться Митька до городской, на другом берегу пристани.
Но постепенно воды становится больше, больше. Правда, теперь она Митьку ничуть не пугает. Он подходит к воде, он идет по ней! Не так чтобы совсем поверх, а чуть-чуть прибредая.
И приближается к нему городок Плес, шлепаются вниз вставшие было на хвосты змеи, рыбы, головастики даже. Они шипят и посвистывают: «Плес-плес-плес, плес-плес-плес». И сияет Митьке снизу, со дна дикое подводное солнце, теперь лиловое, а не золотое, и холодная весенняя вода уже не обжигает, – тихо лижет щиколотки, но до колен никак не доходит. И опять, то ли дядька Григорий, то ли кто-то другой, но уже тише, тише орет: «Это городок Плес, Димитрий! Это – Плес! Плес!»
И теперь одно только это слово добегает до Митьки ласковым круглым звуком. Слово это – как сама жизнь: близко, а не достанешь. Разве только удастся дойти до него, шлепая ботинками по воде. Дойти, как ходили, а, может, и теперь еще ходят одни святые: не опускаясь на дно, легче и лучше, чем во сне!
Гул земли
(Бобровый остров)
Хруст коры, треск лопнувшей льдины, ярко-пламенный разрыв серенького зимнего неба над Южным портом. И опять рыхлый, падающий крупными хлопьями снег: ки́жа.
Правдивые истории не бывают слишком связными. Прилипчивая, как смола, несвойственная реальной жизни «связность», вызывает тошноту и озноб, заставляет судорожно хватать ртом зимний кочковатый воздух.
Вот и только что выведенные на бумаге, начальные фразы этого рассказа: они не имеют тесной привязки к середине или концу – пришли ниоткуда, уйдут бог знает куда.
А начало, скорей всего, будет таким…
Доводилось вам зимой, по льду, чуть шаркая грубыми подошвами, перебираться на Бобровый остров? Сделать это несложно, нужно лишь обуть сапоги и на всякий случай взять в руки длинную палку: вдруг полынья?
Остров появился недавно, ему нет еще и ста лет. Возник он посреди озера Кривая Баба, которое позже слилось с Нагатинской заводью. Новая эта земля поднялась наверх из-за падения уровня воды в Москве-реке, потом ее досыпали щебнем, загатили хворостом и красной глиной, и теперь, наискосок от Южного порта, не россыпь озер-болот, а вполне себе чистый и ухоженный изгиб Москвы-реки.
Зимой на острове – никого. Тишина оглушает. Отряхиваясь от нежданной тишины, замечаешь бобровый, осенний еще погрыз, да легкую путаницу следов: вороньих, заячьих.
Походив по острову, уже собираешься восвояси, как вдруг неясный звук: в ушах начинает разрастаться далекий плотный гул!
Вложив по очереди пальцы в уши, трясешь руками, головой…
Гул не прекращается. Наоборот: что-то поверх него в Южном порту дико лязгает, а потом с треском разрывается.
Галдят поднявшиеся в небо воро́ны…
Чтобы избавиться от неожиданных звуков, начинаешь про себя и вслух бормотать первые пришедшие на ум слова. Замолкаешь – и становится ясно: гула больше нет.
Растерянно оббежав взглядом московское раздолье: Нагатинскую пойму, Перервинские острова, едва различимую сквозь зимний туман церковь Вознесения в Коломенском, – опять утыкаешься глазами в островные кусты, деревья.
Зимний остров благостен, тих. Звуки, доносимые из отдалившейся внезапно Москвы, тоже стали ненавязчивыми, ласкающими.
Тут под ногами что-то сладко лопается – как банка с замерзшим компотом на балконе – и опять струится, а потом устанавливается в ушах слитным, хорошо ощутимым звуковым столпом низкий подземный гул.
По своим же следам, по льду, чуть припорошенному снегом, спешишь назад.
Зима сменяется весной, снежный Бобровый остров – прогретой комнатой.
В комнату вложено слово. Какое – неясно. Ясно одно: главное в комнате – не вещи, главное – объем и вес этого немого слова.
За комнатой – улица. В нее вложено уже несколько слов. Слова постепенно яснеют, приобретают контуры, цвет. Слова эти вот какие: серо-аспидная «длина»; изумрудная «высота»; беловато-прозрачный «шум»; синенькая «скорость»…
Высота нашей улицы определяется не домами – деревьями. Высота – тридцать пять метров. Эту высоту определили своими верхушками березы и осокори. А шума улицы не слышно потому, что от него отвлекает все тот же далекий, низкий гул…
Вдруг – три-четыре голоса сразу.
«Ну, вы же, конечно же, знаете: существует такое явление – гул земли. Вы меня, слышите, меня понимаете? Нам, людям, всегда нужен сильный импульс, толчок. Гул земли такой толчок и дает. Выбирайтесь-ка на природу, там как раз и услышите».
«Все это пустые слова. Вам бы подлечиться как следует. Гул в ушах от высокого давления».
«У вас, у самого, с головой все в порядке?»
«А у вас?»
«Меня голова пока не подводила. Уши – да. Глаза – да. Голова – нет».
Дни идут, даже скачут вприпрыжку. Вмиг подоспело лето. Стало ясно: надо еще раз побывать на Бобровом…
Западную оконечность острова густо залепил туман. Поднимается ветерок, он закручивает туман медлительным и бесшумным винтом. Ленты тумана нехотя завиваются кверху, к туману начинает вязаться подтекстовка. Тут же, на случайной рекламке, пишутся разрозненные слова, и сразу клочьями летят в воду. Но стержневое слово, оно накалывается на руке синим «шариком».
Писать на руке – сладкая и невыводимая школьная привычка. И место для этого есть превосходное! Сухожилие между большим и указательным пальцем. В школе удавалось на этом пространстве уместить две-три формулы, иногда – придаточное предложение. Но теперь на кисти левой руки, между костяшкой пальца указательного и нижним суставом пальца большого – поместилось лишь одно сдвоенное слово: «гул-остров».
Слово, наколотое на руке, саднит и печет, но смотреть на него приятно. Да и сама нелепая попытка что-то на ходу записать не огорчает, – веселит.
Теперь остается на остров переправиться. Самое удобное место – трактир на берегу. Однако в трактире сандень. Так, во всяком случае, значится на табличке, приколоченной над деревянными воротами, ведущими в просторный трактирный двор.
Толкнув калитку, входишь.
Квелый официант в безрукавке. Косо нацепленная бабочка в горошек. Тянет-гундосит: «Санитарный де-ень, посторонним нельз-я-а»! Потом спохватывается:
– Вообще-то на острове сейчас – конкрет-шоу. Так что, если желаете… Там и перекусить можно. Вам с собой заверну-уть или попозже прислать?
Никогда не знал, но от трактира к острову – наверное, для вытрезвления хлебнувших через край посетителей, – снует туда-обратно лодочка…
Летний остров совсем не похож на остров зимний. Бобровых погрызов стало больше, птицы – не одни надоевшие воро́ны: самые разнообразные. В траве изгибисто мелькнул хорек, а может, это была ласка.
Лодка ушла, ты не спеша осмотрелся.
Внезапно за деревьями – человек: синий форменный китель, рваные бермуды, высоко и осторожно, как в замедленном кино, поднимает ноги. На ногах ласты.
Мимовольно оглядываешься. На острове, ясен пень, ни полиции, ни другой охранной власти. Табличек «Кабель» или «Продуктопровод» тоже не видно. Даже вездесущие рекламные щиты с геморроидальным подтекстом – «Проктор энд Гэмбл», и те глаза не мозолят. Зато неожиданно между ольхой и молоденькой сосенкой – табличка:
«Территория мысли»
Слова выведены на куске березовой коры. Краска яркая, оранжевая, буквы – фигуристые. Правда, непонятно: табличка должна прибывших на остров приманивать или, наоборот, отгонять?
Снова человек в кителе и в ластах. Теперь появился со стороны Марьино. Ласты при ходьбе издают чмокающий звук, квакают, как резиновая лягушка.