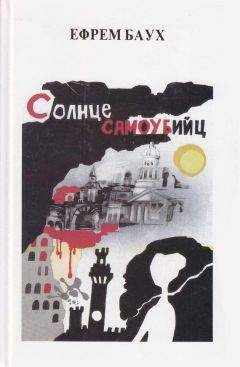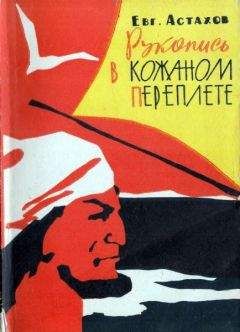Эфраим Баух - Над краем кратера
– Как же он выжил?
– Да это уникальный врач. Не представляешь скольких он спас от смерти. Анекдотов знает уйму. Вот, к примеру, что такое – чудо юдо? Знаешь? Догадываешься?
– Не томите, мадам.
– Это еврей, устроившийся на работу.
– Слушай, Анастасия, с тобой опасно иметь дело.
– А то.
– Куда же мне деться?
– Держись за меня, и все будет в порядке.
– Может, меня не устраивает матриархат?
– А куда ты денешься?
– Из-под женской власти я бежал не раз.
– Но я же тебя люблю.
– Так быстро?
– А это не требует много времени. Стрела Амура летит считанные мгновения. И не знает промаха.
– Сбегу.
– Найду из-под земли. Я же ходок профессиональный.
– Это я заметил.
– Ради любви я способна на все. Ты, конечно, подвернулся мне на пути. Но это – судьба.
– Не шути.
– Какие там шутки. Не вижу радости в твоих глазах, а даже какой-то страх. Да поверь же, такое редко случается между женщиной и мужчиной, если ты искренен со мной, как я с тобой. Это наше с тобой спасение.
Она шла впереди меня, с легкостью горной косули перепрыгивая с камня на камень вдоль летящей вниз речки Улу-Узень. Захотела искупаться под летящими с высоты тяжкими струями водопада. И я сидел в зарослях, со стороны, и вправду, как существо второстепенное, не отрывая глаз от ее обнаженной фигурки под струями, я даже исподтишка пару раз щелкнул ее фотоаппаратом.
Мы отдохнули внизу, в совсем одичавшем и одряхлевшем фруктовом саду, в том месте, где стояла когда-то наша палатка.
Поели яблок и слив, которые она тщательно омыла в ключевой воде.
Вышли к морю. Она заплыла так далеко, что едва была видна ее головка, а я остался на берегу. Я все еще не мог прийти в себя от всего ею сказанного на оставленных нами пару часов назад чистейших высотах. Слова, сказанные там, воистину, как чистое промытое золото, западают в душу.
Анастасия открылась мне с неожиданной удивительной стороны, существом не от мира сего, быть может, ангелом во плоти, управляемым с неба, и потому способным, как на доброе, так и не доброе. Странные мысли вертелись в моем сознании. Не подобна ли она демону Лермонтова, только женского рода? Но поцелуи ее не обжигали потусторонним огнем, а были земными. Быть может, лишь по сладости, от которой кружилась голова, отличались от поцелуев, положим, Нины или Лены. Светлана стояла особняком, потому что отдавалась этому беззаветно. И все же, никто из них не мог дотянуться, я бы сказал, до смертельной сладости Анастасии, до ее ошеломляющего меня понимания любви, до высоты ее присутствия в мире.
А может, я преувеличиваю, старался я себя успокоить. Ощущение собственной второстепенности не оставляло меня.
Вот она вышла из моря, – существо, подобное Афродите или Венере. Она привлекала взоры всего второстепенного населения пляжа, вкупе с женской половиной. Рядом с ней я как бы не существовал в их глазах.
До Ялты мы добрались так же на катере. Я сидел под тентом, а она стояла у борта, как будто летела над волнами, и ветер обвевал ее фигуру, раздувал платье, развевал волосы. Это была ее стихия, казалось, с некоторым пренебрежением отчуждающая меня от нее.
* * *Мы еще доберемся кораблем, затем поездом, до городка моего детства, побудем пару дней у мамы и бабушки. Я поведу ее вдоль реки, мимо нескольких еще оставшихся, почти вросших в землю домиков среди деревьев, дикого винограда, туда, где над этим пространством высятся многоэтажные дома. Но между ними еще много старых стен. Я покажу ей помещение маленького магазина тканей и одежды, который и был магазином моего детства с корабельным бортом темно-коричневого дубового прилавка и люком в потолке, куда вела лесенка. Ничего этого нынче нет в помине. Я буду рассказывать ей о приказчике и капитане, о том, как я считал, что легче отрастить себе живот и отпустить лысину, чем добыть золотую цепочку для карманных часов. Мы подойдем к колокольне, чей купол едва торчит из-за пятиэтажного дома, будем глядеть на замершие колокола. И оживет во мне обволакивающий гул меди: напоминание и предупреждение. И в мелькающих воронах померещится мечущаяся тень звонаря.
Мама и бабушка будут нас обхаживать и не отводить глаз от Анастасии. Я поведу ее на чердак, покажу щель, куда уползает время, и расскажу об «Илиаде», о бинокле, дорогах войны, про то, как я подстригал кошке усы, про самовар, который был одновременно и кораблем и, благодаря кривизне, земным шаром, за край которого и уплывал корабль. Расскажу про мед и медь.
Пройдем мимо школы, где я учился, и классный руководитель наш биолог со странной фамилией Звездич, о котором говорили: «Как звезданет, не очухаешься», посоветовал мне оставить мысль о морском училище и поступать на геологический факультет. Мы посидим в парке на памятной мне скамейке. На ней я переболевал сонной болезнью мечтательности и навязчиво радостной готовностью самопожертвования.
И так же, как я заново открывал Марсово поле, Летний сад, Петродворец, весь город в свете ее серых глаз, оживет заново все дорогое и немногое, на чём крепится моя прошедшая жизнь – корабельные мечты и мачты, колокола, медь, чердак.
Правильно я сделал, что не рассказывал ей обо всем этом до сих пор. Всегда то, что рассказываешь, заманчиво, и все же выглядит немного выдумкой. Но вот, сам вдыхаешь аромат провинциального южного городка, кажущегося самому себе, несмотря на шоссе, железную дорогу, заброшенным в солоноватых скифских степях. И аромат этот печально и тоскливо рвется в пространства снастями проводов, убегающим вдаль поездом, который, коротко, как улетающая птица, вскрикивает, перекликаясь с оставшимися собратьями. Бродишь по городку, и все как в больших городах, – парки, рестораны, кинотеатры, магазины. И все же ощущение провинциальности, короткого дыхания, медленного течения жизни не оставляет ни на миг. И чувствуешь сокровенность оранжевого свечения, зыблющего чердак, колокольни, грустно освещенной на закате и как бы приобщенной этими последними лучами солнца к дальним полям, небу, водам, людям, застигнутым закатом в поле или на дороге, на лодках или кораблях. И знаешь, что скоро погаснет, свернется свет, и каждый останется сам собой в свежей прохладной тьме. И поле, и небо, и человек, одиноко бредущий по городу, и ты, малыш, в преддверии всей своей жизни. Вот когда можно понять возникший в тебе на всю жизнь порыв, восторженную и печальную бестолковость, которая так навредит тебе в приходящие годы, примешает ко всему то мнительность, то не в меру застенчивость, то не в меру уверенность.
Все это я буду ей рассказывать с единственной целью несколько опустить ее на землю с небесных эмпирей, и показать, что в провинциальности и втор о степенности свои прелести и тайны.
Мы будем обедать вчетвером за столом, в комнате, где я спал в детстве. И я буду сидеть на месте, где стояла моя кровать, мама будет подавать на стол, а бабушка – сидеть возле меня, не сводить с нее глаз. Она негромко будет говорить мне на идиш, что девочка действительно красавица, жаль только, что не еврейка, но, как говорится, все вместе не бывает ни у кого, и она мне всегда говорила, что я счастливчик, родился с золотой ложечкой во рту, и Бог держит надо мной Свою правую руку.
А потом сядем в туристический автобус, идущий через город моей юности в город моего студенчества. Будем сидеть рядом, и смотреть на поля, сады, виноградники, бегущие по обе стороны дороги. И экскурсовод будет рассказывать о земле, на которой я родился, о городе, в котором прошла моя студенческая юность, и мне будет смешно, и трогательно узнавать в заученном казенном тексте, то, чем была и есть моя жизнь, и что звучит в устах экскурсовода, говорящем на том же русском, и все же как на иностранном, чересчур правильно и старательно. И я буду ей на ухо шепотом поправлять экскурсовода, и никак не смогу всю дорогу избавиться от ощущения, что я и вправду как турист, еду по земле прошлой моей жизни и, как турист, гляжу на людей, дома, мосты, реку, на берегу которой родился и в водах которой учился плавать.
Мы остановимся в гостинице, и снова администраторша отнесется с пониманием к тому, что мы официально пока не муж и жена, но уже подали в Питере заявление в ЗАГС. И я поведу ее к озеру, и, держа ее за руку, безбоязненно пройду мимо Зеленого театра. И вся прошедшая жизнь станет мне еще дороже, потому что будет она освещена и освящена светом ее глаз, самим ее присутствием, как охранной грамотой, и после этого наше вдвоем существование станет еще более прочным и несомненным.
Позвоню Даньке. Он прилетит в гостиницу, как всегда, запыхавшись. Облапит меня, не сможет оторваться. Я буду чувствовать, как он через мое плечо рассматривает ее. Поцелует ей руку. Тут же предложит: завтра суббота – едем на пикник. Он всех обзвонит, соберет. Место знает чудесное.
И мы будем сидеть в леске, недалеко от обочины дороги, где из трубы, выступающей из стенки, сложенной из плитняка, течет родниковая вода. Мы будем идти к роднику через холмы и озера, от аллеи старых дубов, дряхло дремлющих под тягучим полуденным солнцем, от аллеи, черной понизу от стволов, желтой поверху, от нескольких лодок с парами, дремлющими посреди озера, столь памятного мне по тяжелым минутам жизни, и ни одной морщинки не будет наблюдаться на озерной поверхности. И воды будут казаться тусклыми, как ртуть, и даже ощущение будет такое, что они выгибаются у берегов.