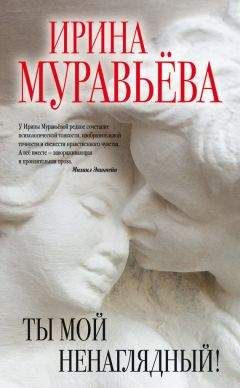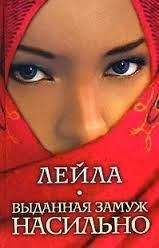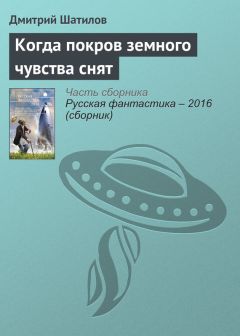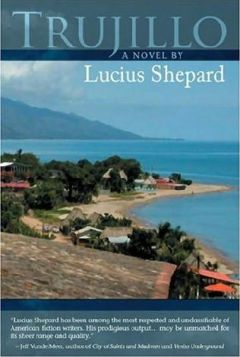Николай Дорожкин - Между Непалом и Таймыром (сборник)
И мне пришлось пережить несколько часов унизительных переговоров, упрашиваний, объяснений, взаимных обвинений и оскорблений. Хозяину картошки всё было нипочём. Я, потеряв контроль над собой, обзывал противника паразитом, падлой, кулацкой мордой, а сына его – пьяным боровом. Они запросто могли меня, как это называлось, «вусмерть изметелить», но тогда дело могло дойти до милиции, и уж денег-то им бы точно не видать! И двое взрослых людей терпели истеричные выкрики пятнадцатилетнего очкарика. Старик ограничивался матерками и многозначительными «ну-ну», а сын его, предельно пьяный, пытаясь что-то сказать, только выпучивал красные опухшие глаза и, угрожающе покачивая грязным толстым пальцем, шевелил раскисшими губами. Слова не получались, но шевеленье губ было очень выразительным, даже страстным. Ещё бы, ведь двадцать пять рублей – это же бутылка водки плюс банка паштета из частиковых рыб…
Победила несправедливость. Вася, узнав о победе злоумышленников, то утешал меня, то грозился переломать ноги паразитам, обидевшим школьника. Но старик долго после этого не появлялся на своём поле, и Вася понемногу успокоился.
Чего в школе не проходят
Оказалось, что Лев Николаевич Петров – коренной ленинградец. Отец его заведовал районо. Мать – костюмерша на Ленфильме. Воровать Лёва начал с одиннадцати лет, и не от нужды, а из любви к искусству. Несколько раз попадался, подводил отца «под монастырь». Перед самой войной Лёва был судим за участие в групповой краже по предварительному сговору, получил срок. В войну попросился на фронт. Там принял твёрдое решение – завязать. Осенью сорок четвёртого был ранен в ногу…
– Вот в эту? – показал я на негнущуюся тяжёлую конечность.
– Вот в эту…
– И с тех пор не гнётся?
– Не гнётся… Но чешется. Дай-ка я почешу…
И Лёва с помощью здоровой ноги стащил сапог с негнущейся. Ступня была обмотана газетой вместо портянки – обычное дело… Лёва достал из кармана большой складной нож, раскрыл, вытер блестящее лезвие о штаны.
– Чешется – не могу… Ах ты! – и он, наклонившись, ударил ножом по обмотанной ступне. – Ах ты, мать твою… – и снова ударил.
– Что вы делаете? – закричал я растерянно.
– Ногу чешу! Я говорил тебе – не перебивай, все вопросы – в письменном виде. А ты перебил, вот нога и зачесалась!
Наверное, у меня было очень глупое выражение, потому что он посмотрел-посмотрел и рассмеялся. Потом размотал газету на ноге… Ступня была деревянная, истыканная и изрезанная ножом. Краска телесного цвета почти вся облезла.
– Вся нога – протез. От середины бедра. Понял? После ранения ампутировали! А чешется так, что глаза на лоб лезут. Я уже много обрезал. И что отрезал – не чешется. Так вот! Загадка природы…
Лёва замолчал, полез в карман за кисетом, от газетной портянки оторвал аккуратный прямоугольник, ловко свернул цыгарку, с треском затянулся и выдал длинную цепочку колец махорочного дыма. Я смиренно ожидал продолжения, не пытаясь больше перебивать. Но Лёва не был молчуном. Просто ему надо было убедиться, что урок усвоен.
– А дальше было так. Вышел из госпиталя, еду поездом в Питер, мечтаю о мирной и честной жизни… Вдруг ночью какой-то гад вещмешок у меня из-под головы хвать – и дёру! Разве я догоню на костылях? Представляешь? Смех и грех – вор у вора мешок украл!.. Но мне тогда не до смеха было. Ни шкуры, ни денег, ни жратвы… Вот тебе и завязал!.. Прибыл в Питер. Родители – я знал из письма – должны были вернуться из эвакуации. Иду домой – в квартире чужие люди, о моих ничего не знают… Пошёл искать друзей, знакомых – никого… Понятно – кто на фронте, кто сидит, а кто в блокаду помер… Занесло меня к ночи в Парголово – любимое место… Иду. Все мысли – пожрать… А уже весна, листва зелёная, всё цветёт – у меня голова кружится, костыли тяжёлые… Вижу – в домике одном окно открыто, лампа горит и на столе, у самого окна – буханка хлеба! Ну, думаю, в последний раз… Пролез в палисадник, руку в окно, булка сама в руке оказалась. А хозяйка была в палисаднике! Она меня хвать за костыль, я и шмякнулся на землю. Она костыли схватила, хай подняла, тут соседи, патруль… Может, и обошлось бы, да судимость не первая… Ха-ха!.. Два года лагеря и на шесть лет – в Сибирь твою родную. И вот я здесь, и вот я с вами… Работаю сапожником в артели инвалидов имени Михаила Ивановича Калинина. В лагере научили шилом ковырять… Женился вот на Шурке…
– Вы теперь окончательно завязали?
– Не извольте сомневаться! Имею в жизни цель и ясную перспективу. Семь классов у меня было, теперь в вечернюю школу хожу, нужна десятилетка. Я отличник по всем предметам. Память у меня богатая, мужчина я начитанный и культурный. Отбуду ссылку – займусь настоящим делом. Ты меня тогда не узнаешь!
Я опять поверил Лёве. Была в его речах такая определённость и уверенность, будто дело за самым простым, как встать и согнать корову с картошки. А Лёва, помолчав, уточнил:
– Ты семь классов уже закончил? Ну, тогда можно! Слушай, я тебе расскажу, как меня в первый раз взяли на дело…
Рассказывал Лёва так живо, что все события, которые он описывал, я как будто видел в кино. А когда что-то заставляло его прерываться, я воспринимал паузу как обрыв киноленты, хоть кричи: «Сапожники!». Я сказал об этом Лёве, он с удовольствием посмеялся:
– А я и в самом деле сапожник!.. Значит, интересно рассказываю? То-то! Я же тебе не Вася, а Лев Николаевич! Имя обязывает…
Культполитпросветработа
В то лето изредка случались не очень жаркие дни. Но хотя небо и было пасмурным, воздух оставался сухим. Лёгкий прохладный ветерок разгонял комаров и паутов, коровы спокойно наполняли свои сложные желудки, а мы усаживались на краю насыпи и ждали, когда Лева придет в настроение и что-нибудь интересное нам расскажет. Но чтобы прийти в настроение, Леве нужна была затравка. Чаще всего повод давал Вася. Он просил закурить, сворачивал цигарку в свой палец толщиной. Возвращая Леве кисет, говорил: «Папироски лучше». «Ишь ты, дурак, а хитрый!» – парировал Лева, и иногда этого было достаточно.
Помню его рассказ о соучастии в краже со взломом. Когда Лева дошел до кульминации, то есть до момента, когда в квартиру вошел её хозяин и, увидев воров с узлами, спокойно сказал «Руки вверх!», держа правую руку в кармане, Вася схватил рассказчика за руку:
– Не надо! Ему не надо! Он школьник!
– Заткнись! – бросил Лева, и Вася молча подчинился. Лева продолжал.
…Когда воры – их было трое – по одному выходили из квартиры, держа руки за головами, хозяин останавливал каждого на площадке второго этажа и приказывал прыгать вниз, в пролет. «Иначе – стреляю!» Один сломал ногу, другой – ребро, третий обошёлся синяками. Хозяин сам вызвал скорую и сказал врачу, что это шпана на спор прыгала с площадки.
– А вы… тоже прыгали? – не удержался я от вопроса.
– А меня с ними не было! Я на шухере стоял. Замечтался… Думал, что куплю на свою долю. Хозяина и прозевал. Мне тринадцать лет было. Глупый еще… Пока ждали скорую, наш старший говорит хозяину: «Мы на твою пушку легавых наведем, статью получишь, фраер!» А фраер достаёт из кармана портсигар деревянный: «Вот моя пушка, ребята…»
Я со своего поста все видел и слышал. Досадно было – на понт взял… Правда, милиции он нас не закладывал. Все равно после мы его выследили, хотели морду бритвами расписать. Встретили, окружили, а он опять в карман. Старший кричит: «А ну давай, фраер, стреляй из своего портсигара!» Фраер ему: «Пожалуйста!» – и из пистолета по ногам… Тот упал, мы – в стороны, а мужик этот кричит: «В третий раз, ребята, не пожалею!» Больше мы его не трогали…
Но Лев Николаевич рассказывал не только о блатной жизни. Оказывается, этот отличник учебы обошел в юные годы все залы Эрмитажа и запечатлел все увиденное в своей ненормальной памяти. Скульптуры он описывал детально, до виноградных листков. Говоря о картинах, старался передать не только сюжет, но и краски, и свое настроение от каждой картины. Старинное оружие, золотые украшения и прочие драгоценности он просто перечислял, как будто читал по списку, составленному завхозом.
Иногда Лева пересказывал содержание прочитанных книг. Похоже было, что он шпарит наизусть. Помню, он излагал нам роман И.Микитенко «Утро» (он так и сказал: роман И.Микитенко «Утро»). В том же году, зимой, эта книга попала мне в руки. Я начал читать. Дойдя до фразы: Вот Нафтула, здорово прыгает, чёртов татарин!», я почувствовал, что читаю знакомый текст. То же было и с книгой В.Шишкова «Странники» – она вошла в мою память прежде всего через Леву.
Конечно, читал он не только про уголовников и воспитанников трудколоний. Как – то он пересказал нам только что прочитанную книжку американской журналистки Аннабеллы Бюкар «Правда об американских дипломатах». Странное было зрелище: на краю насыпи стоит маленький мужчина в мятом, засаленном пиджачке, одна нога в рваном сапоге, у другой деревянная ступня разбита в щепки; на лице – жиденькая бородка карикатурного дьячка, насмешливый красный нос и холодные, спокойные глаза цвета сыворотки, кепка так низко надвинута на глаза, что голова постоянно задрана. И странно было слышать, как эта фигура говорит – нет, вешает – звонким, резким тенором, отчетливо произнося: «Джон Джонс не хочет войны. Джон Джонс хочет мира!»