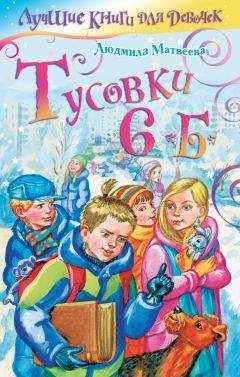Людмила Матвеева - Бабка Поля Московская
– «Видишь, Поля, свинья нарисована! Только очень крутого посола, сказали – чтобы варить с этими, как их! Ну, как наш горох, только покрупнее! А, с бобами, вспомнил, не знаю только, что за такие за бобы» – и он вывалил на стол плотный и крепенький холщовый мешочек, туго набитый – килограмма на два – скрипящими на ощупь фасолинами необычайно крупного размера.
Полька тут же про себя прикинула, какой же хорошенький мешочек будет, когда опустеет – для круп! Все вот посылочку Коле в армию никак она не соберет – ну нет денег, хоть плачь! А тут хотя бы вот мешочек уже пригодится – все не просыплется в посылочке греча-то, уж больно сынок Николаша с детства с самого «грешную» кашу уважал!
Небось, на Сахалине-то на его, на краю на самом земли, одной рыбой вяленой соленой кормят, где-то слышала она, да чай там с тюленьим жиром вместо сахара вприкуску дуют…
Это вот только пишет он – уж два письма успел прислать! что кормят их там «на убой» – у нас в Москве, на Крестьянской Заставе, где золовка Настькина живет, ездили мы к ней на трамвае «Аннушка» в гости и видели мы с Настей – как по Скотопрогонной до бойни полудохлых коров вели – эту «убоину» и собака бы жрать не стала, одни кости да кожа!
Поле вдруг стало стыдно, что она, не спросясь хозяина, уж подарки его «определить» успела.
Тут на свет появились три здоровых, литра по три каждый, ребристых металлических бочонка, с торчащими, но запаянными, как бы «горлышками» – для слива, видимо!
– «А это что? Горючее, что ли?» – не удержала неприличного любопытства Поля и быстро прикрыла рот рукой…
– «Ага, Поль, угадала! Масло это! Только не машинное, а растительное!
Да чуднОе какое-то, все разное, вишь, картинки какие – это кукурузное – и не выговорить!
А эти две – сливовые, глянь, из слив зеленых – по-нашему, терн, – и даже вот из чернослива масло выжимать научились.
Да ладно, Поль, авось не отравимся! Жалко, конечно, что не подсолнечное – ну да что уж тут поделаешь – дареному коню в зубы не смотрят!»
– и Сенька вдруг запнулся, застеснялся, как бы Поля чего не подумала, что он ей гостинцы вроде «на тебе, Боже, что нам самим не гоже» – притащил.
– «Ну вот, Поля, вроде и все подарки. Ты уж прости меня, коли что не так! Вот сельди были банки пятилитровые у старшИх, мне не досталось, то есть, не положено, вот что мне было жаль».
Поля стояла молча, будто онемев от привалившего под самый Новый Год такого счастья.
Потом вскинула на Семушку полные слез глаза – и как кинулась его целовать, хватая за уши, за волосы, прижимая к губам и его грубые красные руки, пропахшие для кого-то противным, а для нее – так самым родным, детство ее деревенское напомнившим вдруг запахом конского пота.
В этот самый момент в комнату вошла Настя, даже и не постучавшись, а только быстренько, для приличия, произнеся: «Тук-тук! Можно?» – и вошла – и обмерла, увидев, как Сенька с Полькой оба плачут в голос и друг другу ручки целуют…
А на сам Новый Год, за гостеприимным соседским столом у «Должанихи», как пробили уж куранты по радио двенадцать, и выпили все и закусывать начали, налегая, кстати, на тонко порезанную, чудесную на вкус и вовсе несоленую ветчину из «цельных двух» утюговых консервных Семеновых банок, продолжила свой «рождественский сказ» об увиденном ошалевшая Настька, пальцем показывая то на радостную Польку, то на смущенного Семена:
– «И вот захожу я и что вижу? Стоят они двое эти столбом посередь комнаты перед столом Полькиным, на котором такие невиданные богатства трофейные разложены и расставлены – пять бочонков с вином, али даже и десять – и еще что-то!» – все повторяла, увеличивая число несметных подарков с каждым новым тостом, напрочь убитая чужим благородством и очень быстро захмелевшая соседка Настя. – Ой, налейте мне скорей, а то в горле пересохло!»
Потом продолжила, утерев рот рукавом:
– «И, главное, стоят – и плачут навзрыд! Когда им только и надо, что радоваться!
Да ты, Поля, что же все до сих пор за свое свидетельство о разводе не заплатила!
Теперь тебе, как ты уже всех деток своих пристроила – один красавец в армии, только придет нескоро, а как придет, так сразу женится и к жене уйдет – к Машке к своей богатой!
А вторая красавица – жениха достойного в Ленинграде себе нашла – уж мать-то им и вовсе не нужна стала, теперь, говорю, тебе, Пелагея Васильевна, как можно за Семена замуж не выйти?»
– и Настя хмельно захохотала.
Все собравшиеся за столом промолчали, Семен сидел, опустив глаза и красный как рак вареный, а Полина, выпучившись на подружку Настю, от потрясения после таких ее выводов сначала икнула, потом встала, сгребла подругу «за грудки», приподняв со стула, и громко, как бы ко всем «свидетелям» обращаясь, сказала, пальцем тыча Настьке в нос:
– «Она – охуела!» -
и отбросила ее назад, на стул, – у той аж голова на шее хрустнула!
Тут же взяла за руку Семена и потянула его к двери:
– «Пошли домой!» – и он закивал и пошел – а у самой двери Полька обернулась и добавила:
– «С Новым Годом вас, товарищи!»
Часть 25. На круги своя…
Пелагея вошла в свою темную комнату, включила свет и стала разбирать сначала Верин диван – для Семена, а затем и свою постель, за шкафом, стоявшим поперек комнаты, лицевой стороной к окну, а спинкой, занавешенной пестрой тряпкой, к Полькиной кровати и делившим узкий пенал комнаты как бы пополам.
Колину раскладушку после его ухода в армию повесили на крюки в кладовке – «на прикол» до его возвращения…
Поля думала, что сейчас она вот ляжет и проплачет всю ночь «от позора», который учинила над ней соседка дорогая Настя.
Но, как только голова ее дотронулась до подушки, она уснула тут же крепко и без снов, так и не заплакав.
Семен успел сообщить Пелагее, что у него три дня отгулов и что он хотел бы «поночевать» у нее ночки две – а то устал он маленько от казарменного распорядка и от храпа возвращавшихся после дежурств своих товарищей.
Он, хоть и вышел след в след за Полей из гостей от Должанских, но по дороге завернул на кухню покурить.
Встал, сам того не зная, как это обычно делала Вера, опершись спиной на стенку в удобном уголке кухни возле двери на черный ход, между раковиной и плитой, на боковой решетке которой стояла пустая консервная банка для обгорелых спичек и бумажек, а рядом с ней, на небольшой кучке длинных узких газетных обрывков для розжига, лежал полупустой спичечный коробок с зачирканными до дыр боками.
Банка эта служила пепельницей для курящих соседей – в комнатах по умолчанию не курил никто, но и на вонючую черную лестницу выходили редко – только если было много гостей.
Впрочем, когда на кухне был народ или готовили, там тоже никто не курил – тогда уж по привычке выходили на улицу, в подворотню, там не было почти ветра – прикуривалось хорошо, и стряхивать пепел и бычки можно было прямо на асфальт.
Семен закурил в одиночестве, не зажигая света.
Вдруг зазвучало довольно громкое в тишине кухни мурчание, откуда-то снизу – и об колено Семена стал ласково тереться толстый пушистый серый кот, он стоял, выгнув спинку, на огромной крышке мусорного бака под раковиной и перебирал лапками от удовольствия, но когтей не выпускал.
Семен погладил кота, пощекотал по щечкам, сказал ему: – «Ну, ну! Хороший!»
Тут в коридоре послышались голоса – это от Должанских расходились спать по своим комнатам соседи. Кот быстро спрыгнул на пол и убежал куда-то в коридор.
На кухню, в свою каморку без окна, возвращались сразу трое – Настя и две ее взрослых, на пять и три года старше Веры, дочери: Ольга – Лёля по-домашнему, и младшая Томочка.
Так как свет на кухне был погашен, они не заметили стоявшего в уголке возле плиты Семена и не обратили внимания на дым от его выкуренной папиросы, потому что девушки сами незадолго до этого выходили перекурить.
Пьяненькая и тихо плачущая Настя все бормотала одно и то же:
– «А что? Неправда, что ль?! Ну что такого я ей сказала? А?» – и потом стонала, «музыкально» скрипя старыми кроватными пружинами.
Видимо, раздевали ее дочери, потому что она ойкнула:
– «Да тихо же вы, криворукие, прямо все волосы повыдирали – гребенка же у меня в пучке!»
И потом снова принималась за свое:
– «А что, неправда что ль? Я сроду не врала никому, все в лицо говорила!!»
– «Ой, мам, да замолчи же ты, наконец, надоела!» – в два голоса повторяли дочки.
– «И кто тебя вот за язык тянул, все это за столом при всех ей вываливать на башку? Про Семена что-то наплела! А особенно – про Николая! Ты что же, при них с Машкой в ногах кровати стояла и свечку держала, когда они спать ложились? Зачем ты все это матери-то его выложила?» – ворчала молодым баском старшая Лёлька.
Ей вторил нежный голосок младшей Томочки:
– «Вот мам, представь, если бы вот тебе про нас кто-нибудь такое сказал, что мы с кем-то давно уже спим!?»
Тут скрип пружин достиг невероятной громкости – мать, очевидно, попыталась резко вскочить с кровати, но зазвенела особо жалобно одна какая-то пружина, и Настя внятно произнести успела только: