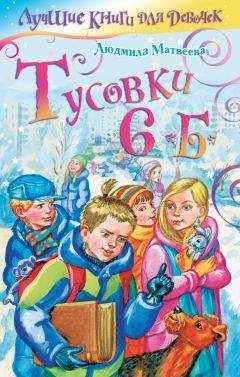Людмила Матвеева - Бабка Поля Московская
Неизвестно, кто за дядю Пашу заступился – но кто-то точно очень сильный, – и отстали от него в конце концов.
После этого он стал все реже и реже возвращаться к себе домой даже в положенную ему четвертую, «Нинкину неделю».
Жена очень на него обижалась, все собиралась сама съездить-проверить, кто его там на самом деле держит, может, и приворожил кто?
На такие ее угрозы и предположения отвечал дядя Паша просто и прямо:
– «Живу я в келье, со стареньким монахом-художником. Хорошо мне там, понимаешь? А как сюда приеду… Душит меня, Нина, и в Москве, да и в квартире нашей, дух сатанинский, давит! Чую его нюхом. Нутром! Не могу здесь больше долго находиться, прости!» – и плакал, виновато закрывая лицо узловатыми пятернями.
И хотя паленым в коммунальной квартире пахло крайне редко – ну, разве что сковородка или кастрюля какая, либо чайник, случайно на огне забытые, прогорят, или «глажка» у кого-нибудь неудачно дырой, «наскрозь» прожженной утюгом, завершится – все же:
– «Несло скольки разов из-под двери тихомировской гарью от шерсти ильбо жженой серой, кубыть из пекла, ей-Бо», – по словам тоже ставшей набожной после страшной кончины муженька ее, Сипугашника, соседки Насти Богатыревой.
Полька нет-нет да и делилась шепотом с подругой Настей, что, мол, – «Чекистка-то наша уж больно долго нынче в туалете заседала, а потом за собой все, видать, газетку жгла, спичками гремела.
Чтоб, это, запах вонючий перебить.
Вот, видать, не в коня он ей пошел, корм-то бесплатный с работы – дармовой, да, значится, дерьмовый!
Вишь ведь, какими сумИщами все в комнату свою прёт и прет с работы по вечерам – а потом, видно, жрет ночами – ажник до усрачки!
Даже чайник не выходит ставить, как все люди – у ей, вишь, спиртовка!
Чартовка у ней, а не спиртовка! А сама вся тож как ведьма какая – худищая, вот правда сказано, не в коня корм! Тьфу, тьфу, тьфу, сгинь, нечистая сила! Прости нас, Хосподя!»
Настька вторила Пелагее:
– «Да, Поля, точно она с нечистой силой знается – вечно у ей ночами огонь горит, как ни выйдешь в коридор-то по надобности – все из замочной скважины у нее свет!
Я не подсматриваю, ни Боже мой!
Но зачем она всю дверь дерьмантином обила – ишь, барыня какая, прям как у хозяев наших захотелось ей! да еще и по низу да по бокам напуском-то прикрыть всюю щель кажную велела?
Вот нам с тобой, Поль, небось, прятать от людей нечего – живем, как на юру – ветер кругом, пусто везде в наших комнатах, разве что вошь в кармане – да блоха на аркане – заместо собаки сторожевой, там воровать-то нечего, коль и прИдут!»
– «Тьфу, ты, Настя, типун тебе на язык, не к ночи будь сказано! – кто к нам придет, кому мы, к Богу, нужны-то!»
Тут раздался звонок в квартиру: один – второй – третий – и замолк!
Значит, звонили Польке – три звонка было ей.
Настя как хотела что-то сказать, так и застыла, разинув рот, потом начала вдруг быстро-быстро вертеть головой, глядя то на дверь входную, то на соседку.
Пелагея, хоть и заметно заволновалась, все же сразу пошла открывать.
По дороге с надеждой сама себя спросила:
– «Может, это к Вере моей кто?» – и вплотную подойдя уж к самой двери, открывая замок и еще возясь с замкнутой короткой и мощной цепочкой, нарочито громко, – специально для тех, кто собирался войти, – добавила, заглядывая в щель:
– «Не все же знают ведь, что Вера к жениху своему в Ленинград уехала на праздники!» – и, наконец, распахнула дверь.
– «Да ты что, Поля, дорогая, – правда что ль, это, про Верочку-то?» – раздался в дверях басовитый и радостный, чем-то неуловимо знакомый мужской голос…
На долю секунды сердце Полькино упало в тартарары, забилось часто и больно в самой глубине, а глаза уже без вопроса и поиска, все определив, и – вот ей-богу, в сильном разочаровании, выдали ей, что это – не муж ее, блудный кот Стёпа, вдруг заявиться решил – по случаю праздника, как ей показалось по голосу.
На пороге, растерянно улыбаясь и переступая с ноги на ногу, в длинных и таких по-родному знакомых хромовых «праздничных» сапогах, но не в обычном милицейском обмундировании, а в коротком, лохматом по низу и из рукавов, ремнем перетянутом, белом тулупе и в таком же бараньем треухе на голове, высокий и широкоплечий, гораздо выше своего старшего брата, и как-то крепче и мощнее всей фигурой, стоял Сёмушка, Семен Иванович, деверь наш ненаглядный!
Плечи Семена, сборя пазы под рукавами, оттягивали назад лямки заметно тяжелого, под завязку набитого, вещмешка.
– «Ой, батюшки, Семушка, миленький, да проходи же поскорее. Что ж ты на пороге-то застрял!» – запирая дверь, причитала Поля. – А что ж не позвонил ни разу? Ведь Вера мне сказала, как тебя увидела, что ты с лета с самого в Москве, живешь в общежитии, у брата якобы работаешь? Правда ай нет? Смотри, Настя, дорогая моя соседушка, как мальчик-то наш Семен Иванович вымахал!» – подталкивая Семена в спину по коридору к своей комнате, верещала радостно Поля.
Тут уж и Настасья свет Федоровна вступила – да со слезами! – тоже начала, маленькая, да юркая, резво забежав по коридору спереди гостя, обнимать его за романовский полушубок, упираясь носом в холодную блестящую пряжку ремня, ойкать и охать про раскрасавца, да про миленького нашего, да «дырагова-зылатова!» Но отошла в сторонку перед Полькиной дверью.
Семен, войдя в комнату, первым делом сбросил с себя тяжкий вещмешок, огляделся, куда бы его приткнуть – и обалдел неожиданно от того, насколько эта полупустая, вовсе почти без мебели, до боли знакомая и родная, так, в общем-то ничем и никак не изменившаяся комнатка, каждую паркетину пола которой он знал наизусть, надраивая дерево до естественного цвета сначала мокрым речным песком для чистки кастрюль, а потом почти кипятком поливая и сразу же вытирая досуха – «чтобы детЯм бОсыми ножками бегать!» – какой же комнатка эта стала маленькой – просто такой тесной и узкой, что аж в плечах сдавило!
Поля не отрываясь глядела, как степенно Семен «рассупонивается», тянется повесить одежду:
– «Да Поля, родная, Господи! Даже полка с крючками все там же висит, около двери над сундуком! Надо же! И сундук все тут же стоит, как и был!»
– «Да куда ж оно все денется-то, и крючки, и сундук-то! Да что им сделается-то!
Семен, да милый ты же мой, да какой же ты молодец, что навестил, в гости пришел! Да как подгадал-то хорошо, прямо под Новый год! Я уж и пироги сёдни спекла, мы у Должанских посидим, всей квартирой, кто захочет.
А то ведь я теперь – как сирота казанская – одна-одинешенька осталАся!» – и Полька быстро промокнула мутную слезинку застиранным фартуком.
– «И вот ты ко мне заглянул, так и пойдем в гости вместе, да что там “неудобно”» – неудобно у чужих, а у своих все удобно!
Мы там недолго побудем, у Евгеши-то, но обязательно, – а то обидно всем станет, коли вовсе не заглянем, нешто можно так-то!
Зайдем, выпьем по рюмочке – ай, Семен, у меня же уж что-что, – а коньяк-то всегда припасен! – как наши на работе говорят – «НЗ», непритронутая заначка! Да знаю, знаю я, что «неприкосновенный запас» – просто мы на заводе все так шутим, понимаешь?
Да давай мы с тобой быстренько за встречу – сейчас сколько время? Десять вечера уже? А ты, небось, голодный ходишь? А, ну что уж там вам в столовке поужинать давали – уж все и проскочило, небось?
А вот у меня сегодня – щи. Да настоящие, из кислой капусты – и даже с петухом! Давай волью, пока горячие! Я на всех на нас сварила, петуха Лида Иванна спроворила – ты ее еще не знаешь, так познакомишься!
Она очень хорошая и одна девочку Галю воспитывает. А отец Галочкин – болгар!
Он в Москве часто, вот им и помогает хорошо, ребенку, то-есть.
Сам-то он женатый, да двое детей. Да нет, не турок же он какой, чтоб две жены ему иметь. Они православные даже. Так уж у них получилось с Лидой – на войне согрешили. А война – она все всем списала.
Ты помнишь, Семен, двух Настиных девочек – Лёлю и Тому? Вот кто тебе в жены-то особенно подойдет! Что ты там в мешке-то своем закопался?
Да, я же от радости тебя и спросить забыла – ты как, надолго ли ко мне в гости, ночуешь или уж подольше, может, поживешь?»
Полина не могла остановиться с вопросами.
А Семен не успевал отвечать.
Он молча выставлял на круглый крепкий ее стол, накрытый одной толстой потертой клеенкой – «бархатная» – а вернее, плюшевая, кое-где обветшавшая до реденькой основы бордовая скатерть «с кистями» – то есть, с желтой бахромой из переплетенных вокруг друг друга толстых шелковых ниточек – была уже приготовлена и лежала рядом на стуле – свои «гостинцы».
Подарки были просто царские: шесть литровых железных банок «ненашей» сгущенки, сказано было, когда паек выдавали, что несладкой, американской! шесть полукилограммовых, необычной формы – «утюгом» – жестянок с мясом, как наша ветчина:
– «Видишь, Поля, свинья нарисована! Только очень крутого посола, сказали – чтобы варить с этими, как их! Ну, как наш горох, только покрупнее! А, с бобами, вспомнил, не знаю только, что за такие за бобы» – и он вывалил на стол плотный и крепенький холщовый мешочек, туго набитый – килограмма на два – скрипящими на ощупь фасолинами необычайно крупного размера.