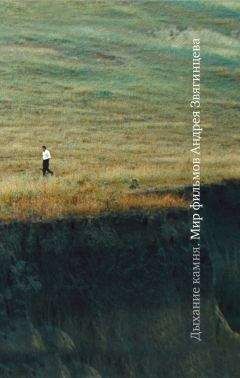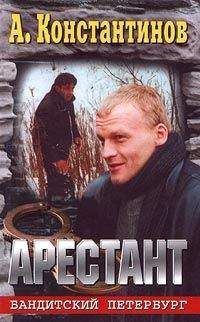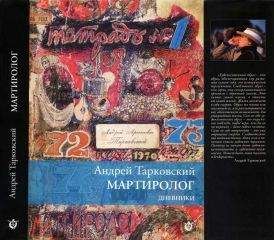Андрей Смирнов - Лопухи и лебеда
– А больше его ничем не взять.
Середа молча достал рубль.
– Чего же ты раньше молчала, баба Зоя? – проворчал Проскурин, собирая деньги.
Самосвал притормозил у ворот. И Петя сразу увидел девичью голову в кабине рядом с Воронцом.
– Леха, сгоняй в магазин. Тут хозяин объявился, бузит.
– Обижаешь, парень. – Воронец открыл дальнюю дверь, и Аня спрыгнула на землю. – Или я не за баранкой.
И вытащил бутылку из-под сиденья.
– …Да не Бéдово, а Бедóво, бедовая значит! Никого, значит, не боялись – бедовые потому. Где какой народ жил, такое и название. Трудовую знаешь? Это она теперь Трудовая, а ей название было Сучья Горка. А мы завсегда были бедовские… Это раньше, теперь один жмых остался. Дрянь народ. Сидят как мыши, за шкафом пьет, под одеялкой закусывает. А я с их смеюсь. Они у меня знаешь где? Все тут…
Худой, тщедушный дед страшно морщился, опрокинув стакан, и, как слепой, хлопал по столу в поисках папиросы. Середа принес дымящуюся картошку в мундире, все накинулись.
– Я молодой знаешь какой был? Я их тут всех крушил. Без меня ни одна драка не получалась. Я какой человек? Мне ничего не жалко. Мне все равно, я свое отсидел… Яблоков-то принеси! – закричал он и закашлялся. – Мои яблоки, не твои, чего жмешь?
Помимо воли Петя чувствовал каждое движение Ани и напрягался всякий раз, как она оглядывалась на Воронца.
– А я их никого не боюсь. Меня первый раз посадили, мне пятнадцать стукнуло. Друг у меня был, Бырин Митюха, я ему башку проломил. А после тоже друг у меня был хороший, Иван Савич. Он счетовод был, совхоза не было тогда, колхоз был. И мы с им казенную кассу прогуляли, в Александров уехали, и нас прямо у марухи у его взяли. А мне все равно сверху врезали, как я только был отсидемши…
– И бухтит, и бухтит… – проворчала старуха, сунув в дверь миску яблок. – Угомон тебе будет?
– Ты им расскажи, расскажи постояльцам-то, какая ты есть дура старая! – обрадовался дед. – Дом продала и к сынку своему намазалась в Вологду, на сыновы харчи. Теперь сбегла обратно, не глянулось у снохи. А куды? Конура собачья – и та майорова… Видали ворону? Где бы ты без Сереги была? А она мне, зараза, на бутылку жалеет!
Они смеялись. Воронец шагнул на порог, глянул через плечо на Аню. И она послушно поднялась и вышла следом. Хлопнула дверь в сенях.
– Я с их всех смеюся. Я сам себе хозяин, на стакан у меня завсегда будет. Коровник в Трудовой, старый, где теперь склад, строили, и, значит, балку на меня сронили… – Он засмеялся: – Вот те и пенсия! Увечился-то на работе. Я только с лагеря пришел. Председатель был, Карманов, переживал. Хоть бы на кого, говорит, а то первый бузотер, а теперь хошь не хошь, а плати…
Петя не выдержал, вышел, сбежал с крыльца. Он курил, вздрагивая на ветру. Корова вздыхала в сарае. Все было тихо на улице, луна светила.
За калиткой он едва не налетел на застывшую парочку. Они стояли обнявшись в тени акации у забора.
– Чего людей пугаешь, Картошкин? – тихо засмеялся Воронец, высвобождаясь.
Слова застряли у Пети в горле. Аня смотрела мимо, словно его не заметив. Она поежилась, прижалась теснее, потянулась к губам Воронца.
Не помня себя, Петя шагнул вперед, схватил ее руку, но Воронец поймал его за кисть.
– Очухайся, Петро! – услышал он остерегающий голос.
– Н-ненавижу! – прошипел Петя в лицо девушке и, оттолкнув Воронца, бросился бежать по улице неведомо куда. Собаки, одна за другой, провожали его отчаянным лаем.
– Живем в деревне, а молока не кушаем, – сказал Проскурин у дверей столовой. – Пюре это из ушей лезет. Пошли на ферму?
Середа отказался, и с Проскуриным отправился Петя.
– Нам питание дороже, – сказал Середа.
За магазином они свернули в проулок. Дорога шла задами, вползла на пригорок, на котором виднелись длинные кирпичные строения. Дни стояли сухие, а здесь землю покрывал слой черной жижи со следами колес.
Они заглянули в коровник. В проходе торчала лошадь с телегой, на ворохе сена сидел карапуз в пальто и ушанке. Девушка с вилами, совсем девчонка, курносая, с круглыми румяными щеками, высунулась из загородки.
– Неужели твой? – кивнул на малыша Проскурин.
Она стеснительно улыбнулась.
– Сестры, – отвечала она охотно, а румянец еще сильнее разливался по ее лицу. – А я вас знаю. Я же бедовская. Вы у бабы Зои живете, а мы – через забор.
– Нам бы молочка…
– Чего надо? Светка, иди отсюда! Чего к девке вязнете? – зазвенел женский сердитый голос, и сразу откликнулись, забеспокоились коровы в стойлах.
Старухина соседка, полная, круглая, как шарик, катилась по проходу.
– Чего ты шумишь, мать? – грубовато сказал Проскурин. – За что девчонку обижаешь? Продай нам молока, мы и уйдем.
– А, ребята… – улыбнулась женщина, пересаживая малыша на телеге. – Внучонка оставить не с кем, так с ним и ездим. Светка, сбегай к Лиде, попроси молока, скажи, я просила… Вот тут я и работаю, меня теть Тося звать, Таисия Павловна. Хочете, покажу наше хозяйство? – быстро, нараспев говорила она и все время посмеивалась. – Тут у нас все телочки, все стельные, а которая телиться собралась, вон туда переселяем. Все у нас хорошо, только теляточки мрут. А кто их знает отчего? Не велят сырого давать, я и не даю, сухое даю, сено или комбикорм, а они все равно мрут…
– А дочка дояркой, что ли? – спросил Проскурин.
– Светка? Нет, она на почте работает, помогать приходит мамке. А старшая у меня в военном городке, в магазине, и зять у меня. А мужа нету, сами обходимся, мы привыкшие… – Она засмеялась. – Работа у нас тяжелая, кормовоз называется, выходных не допросишься, потому работать некому, народу нет…
Девушка принесла ведро молока.
– Кушайте на здоровье, ребята, молочко у нас хорошее, у нас в области молоко второе по жирности…
Выйдя на улицу, Петя так и застыл с ведром. На обочине стоял на траве парень в начищенных сапогах, в черном бушлате и кричал в окно коровника:
– Клав, Нинку позови, кому говорят!
– Ты чего? – обернулся Проскурин.
– Тот самый. Что меня в первый день отметелили…
Проскурин подошел к парню вплотную:
– Здорово, друг.
Тот покосился угрюмо, и Петя понял, что он не узнал.
– Отвали, – буркнул он.
Спина Проскурина коротко дернулась, и парень полетел на дорогу, разбрызгивая грязь. Он приподнялся, ошалело помотал головой и, увидев над собой Проскурина, загородился рукой.
– Вставай, падаль. Я лежачих не топчу.
– Хватит, пускай катится, – сказал Петя.
Парень встал.
– Офонарел, что ли? – пробормотал он, оглядывая в изумлении свой костюм.
– Не надо, Коля! – Петя схватил его за плечи, но Проскурин, легко увернувшись, ударил снова, и парень рухнул. – Ты что, спятил? Кто тебя просил?
Но Проскурин и не думал отступаться.
– Молчи, дурак, они только это и понимают. Привыкли, дешевки, по темным углам… Учить их надо.
– Козел, ты же меня без зубов оставил… – Парень сплюнул.
Из коровника бежали женщины.
– Не тронь, гад! – кричал Петя, отталкивая Проскурина. – Ты сам такой же!
С ночи зарядил дождь.
Утром пришла соседка с малышом, они со старухой затеяли квасить капусту. Середа вызвался помогать, и в комнате сразу стало не повернуться, втроем они стучали ножами у стола, мешая друг другу.
– А песни петь будете? – поинтересовался Пятигорский.
Он сидел с книжкой и играл в шахматы с Проскуриным.
– Мы же тверезые, – сказала Таисия. – С чего нам петь-то?
– А раньше пели. Девушки собирались со всей деревни, рубили капусту, а по ходу дела играли и пели. Хозяева угощение выставляли. Это и называлось – капустник…
Середа, фыркнув, недоверчиво покосился на него:
– Ты-то откуда знаешь?
– Читал…
– То раньше! – оживилась старуха. – Раньше сколько солили! У кого семья большая – и десять кадушек насолят. Без капустки да без картошки до Пасхи нипочем не дотянешь.
Малыш добрался до сундука и норовил ухватить с доски крошечные фигурки. У Проскурина желваки ходили на лице – он проигрывал.
– Забери ты его, Тось! – не выдержал он. – Играть не дает.
– Ребенок ни при чем, давно сдаваться пора… – Пятигорский делал ходы, не отрываясь от книжки.
Петя валялся в своем углу с приемником. На диване, уткнувшись в валик, беспробудно спал Воронец.
– А вы раньше бедные были, баба Зоя? – спрашивал Середа. – До революции?
– Которые вино пили – конечно бедные. А кто работал да сыновья у кого, те хозяйство имели. У нас лошадь была одна, корова была, овцы еще, поросята. Курей мы не держали…
– Чего же на капусте сидели?
– Так пост же! После Масленой-то пост семь недель. Ни мяса, ни рыбы… Чего матка на стол поставит, то и лопали. Не как нынче. А брат старший, Пашка, с погреба сало таскал тишком. Драл его папаша, а он все равно таскал. Здоровый был, что ни съест – все мало. Отец придет на Пасху, Пашка сразу хоронится… Или с ребятишками окуней в проруби наловят, пожарят да трескают, чтоб мать не видела. Озеро-то не наше было, ловить не позволяли. Его немец купил, Шумахер, и фабрику на той стороне поставил…